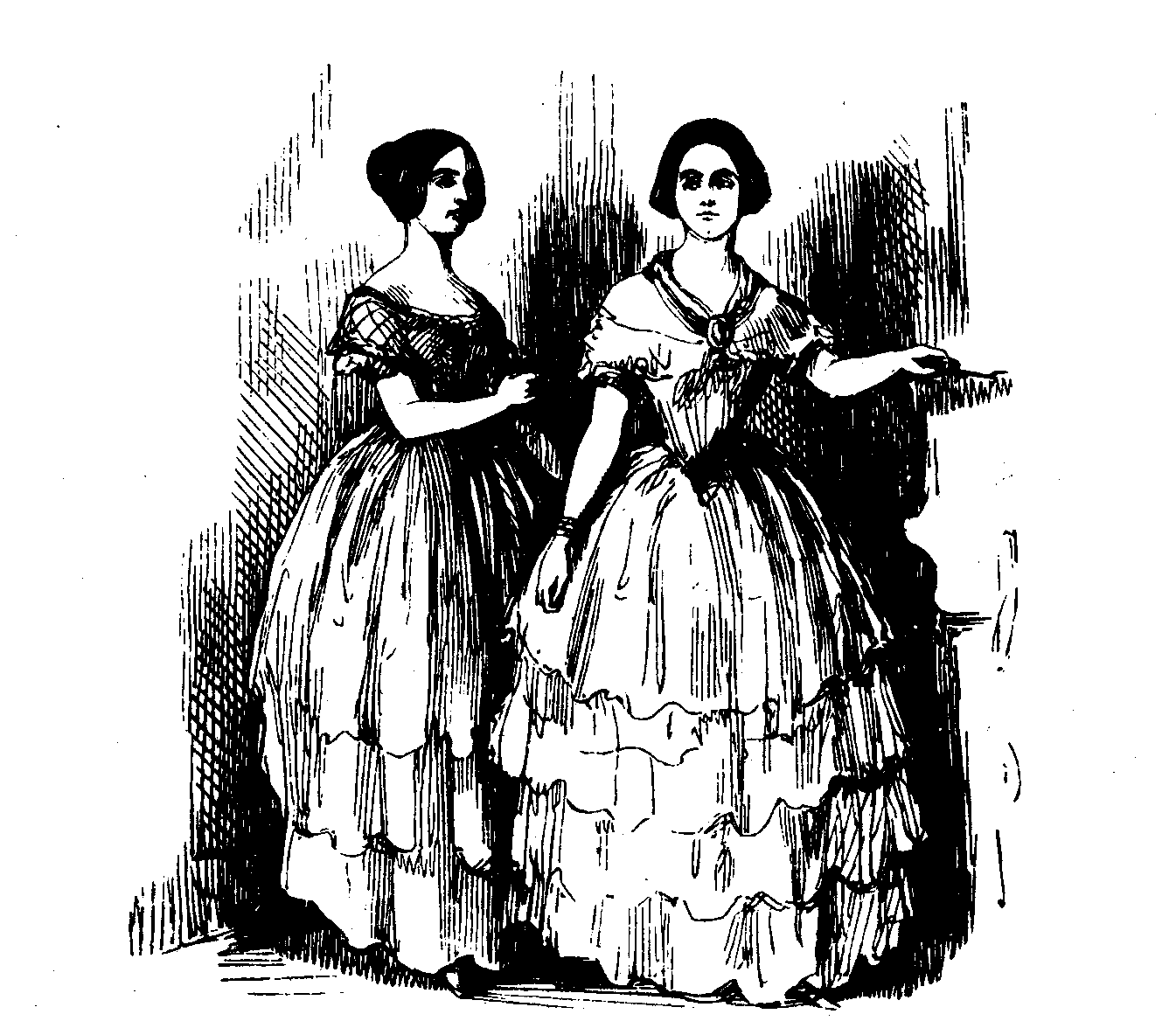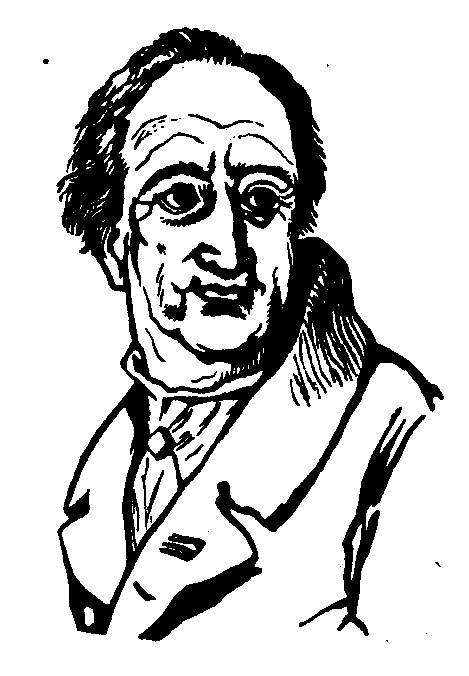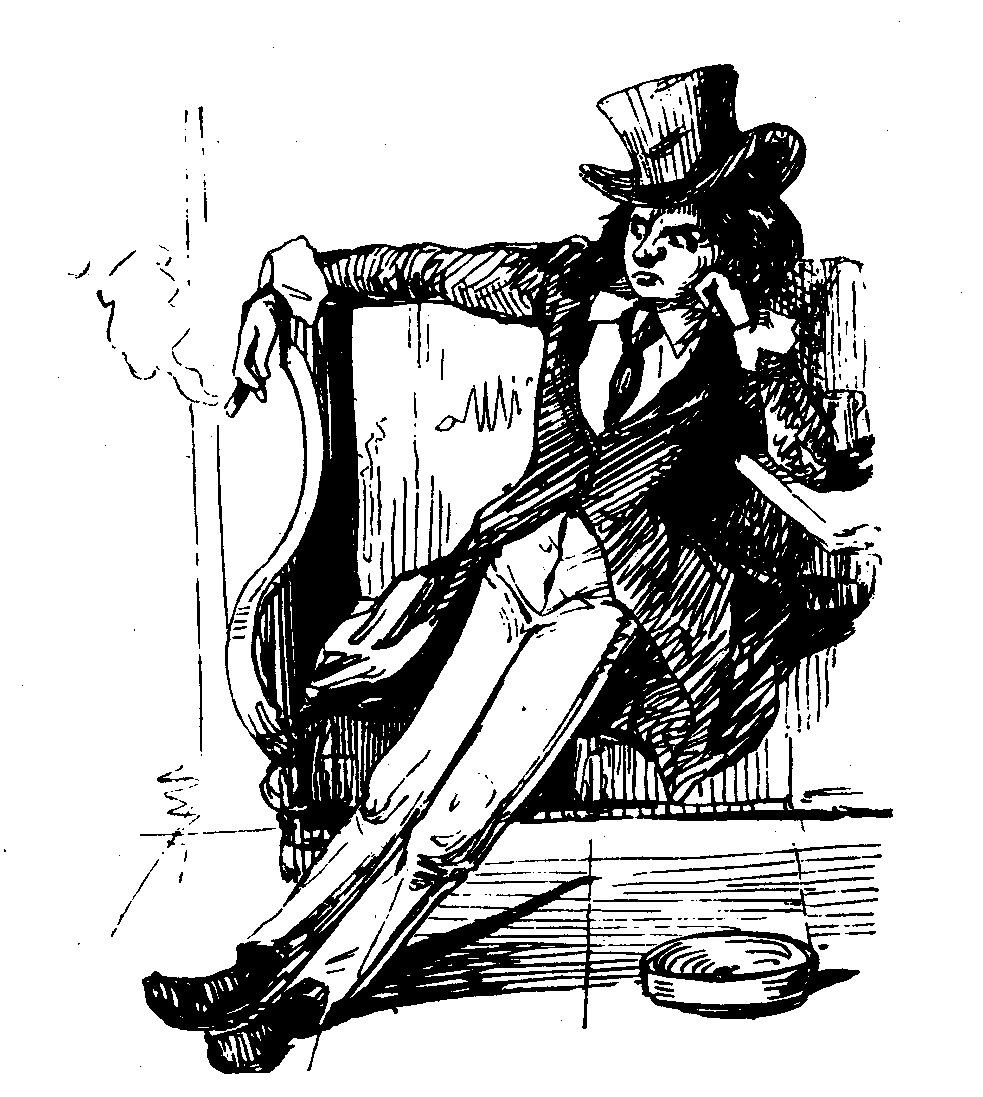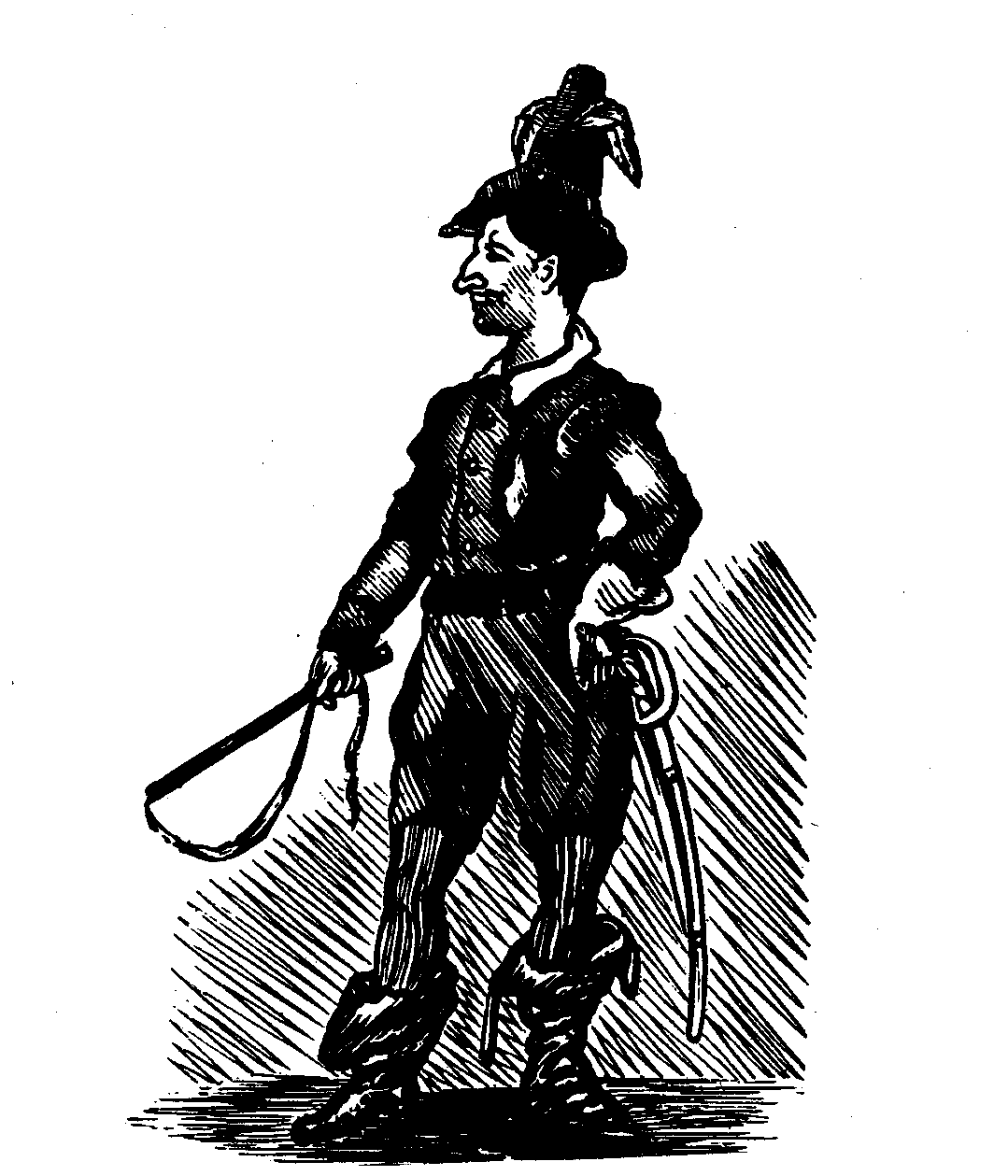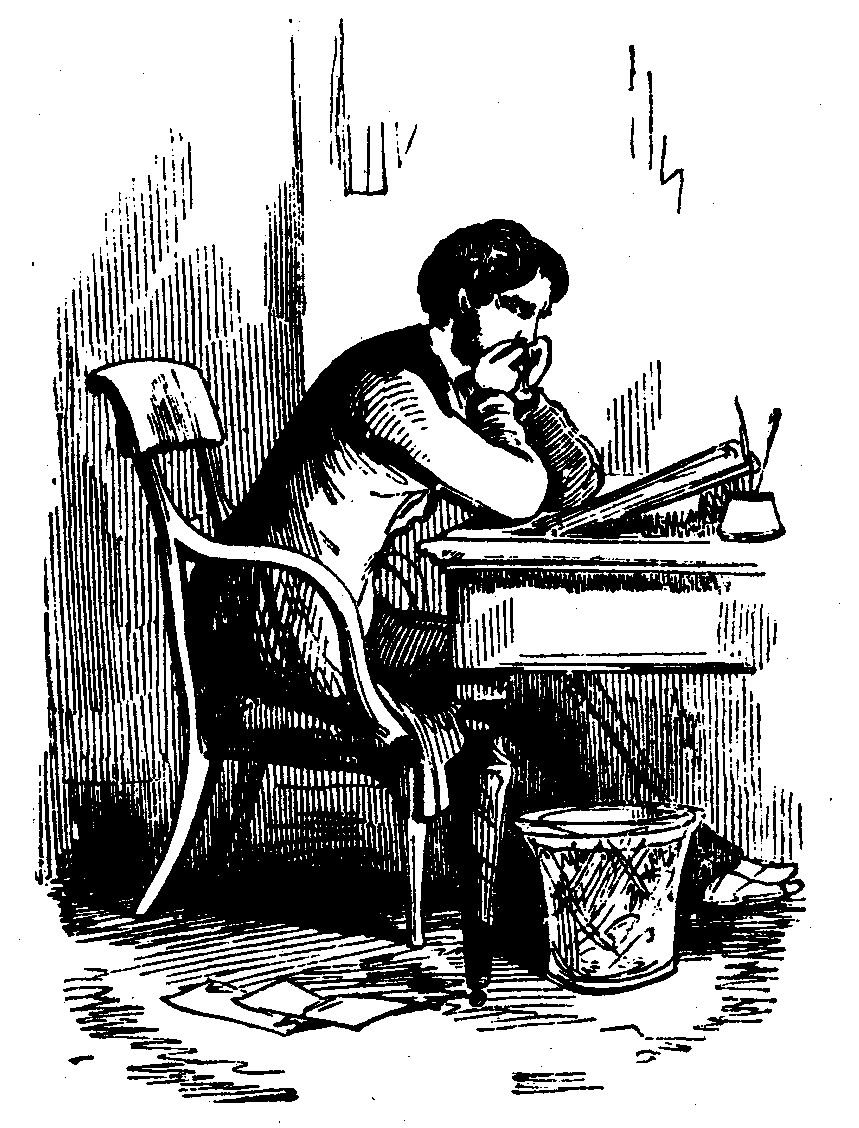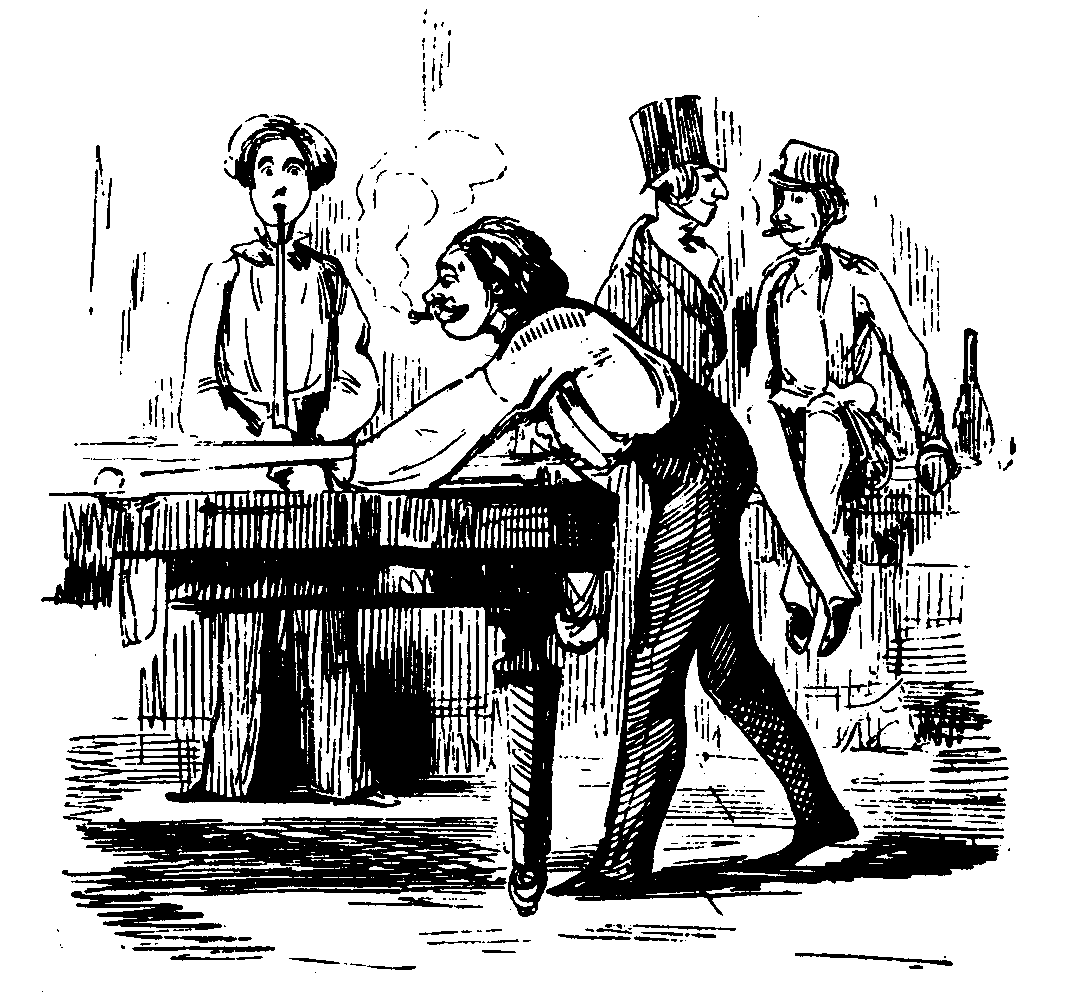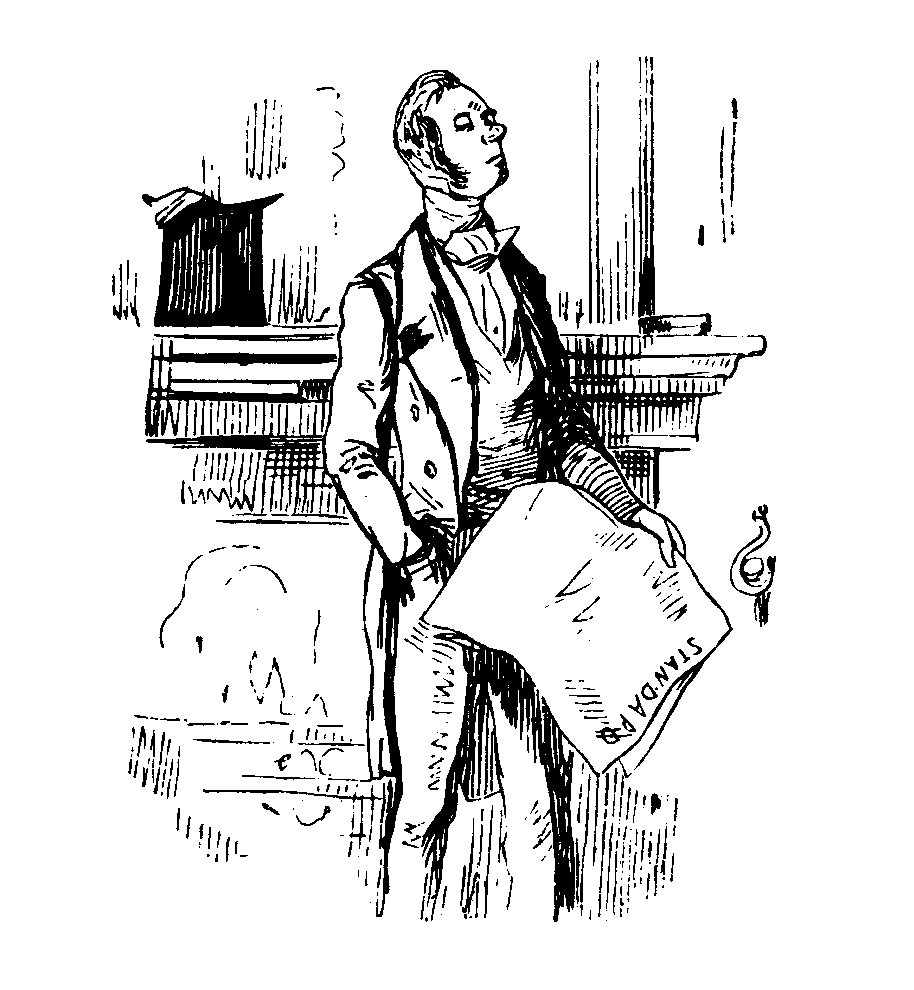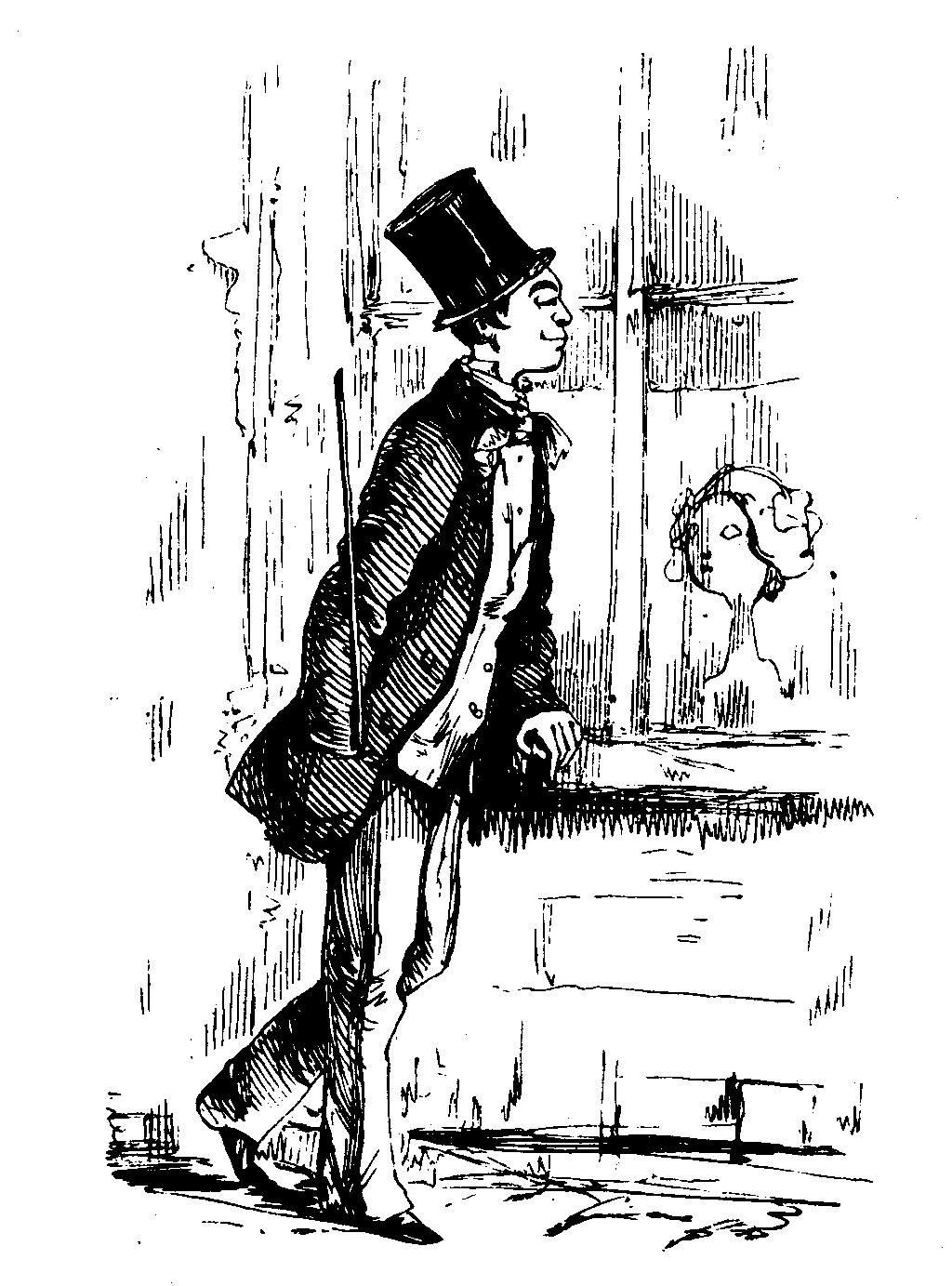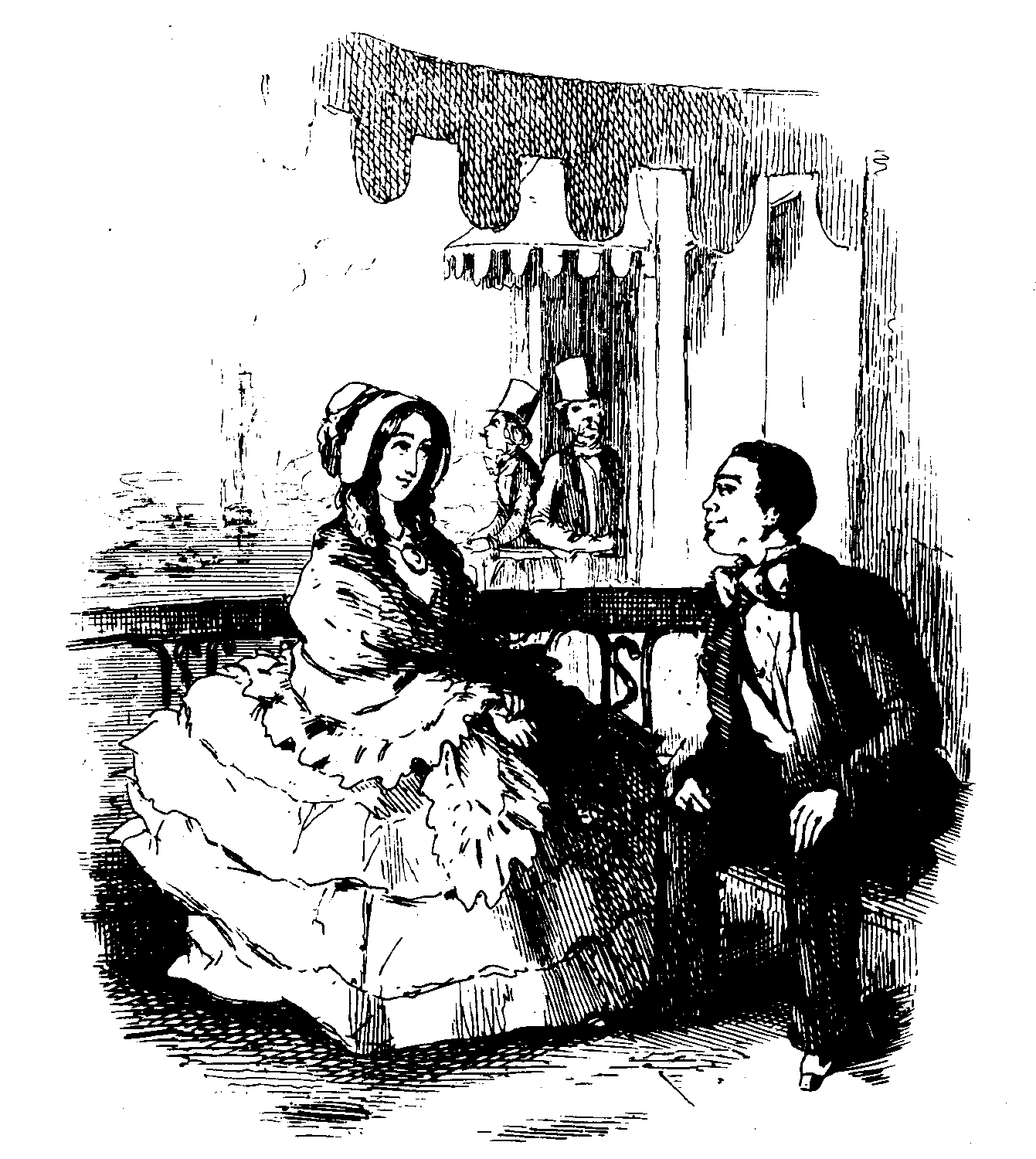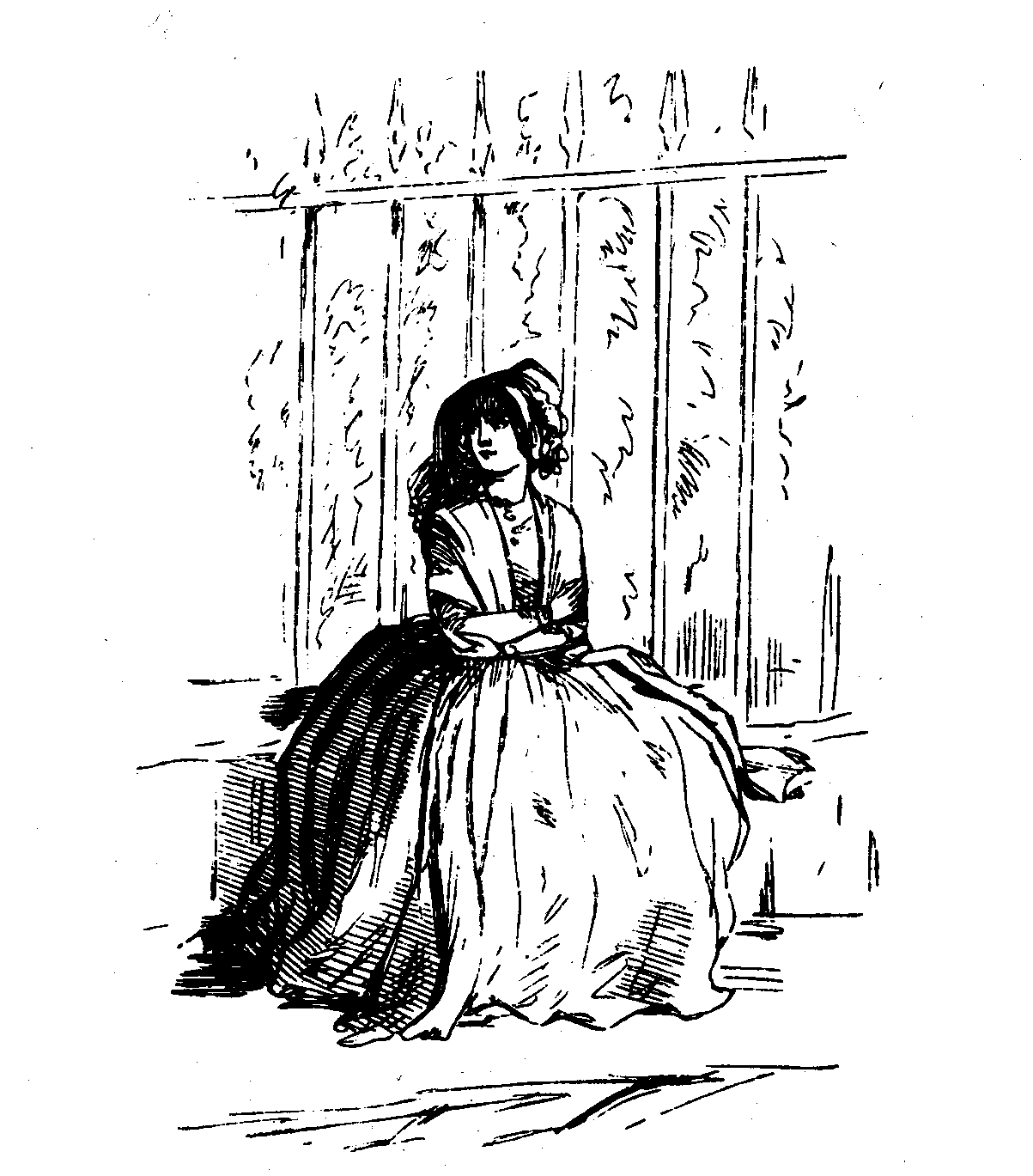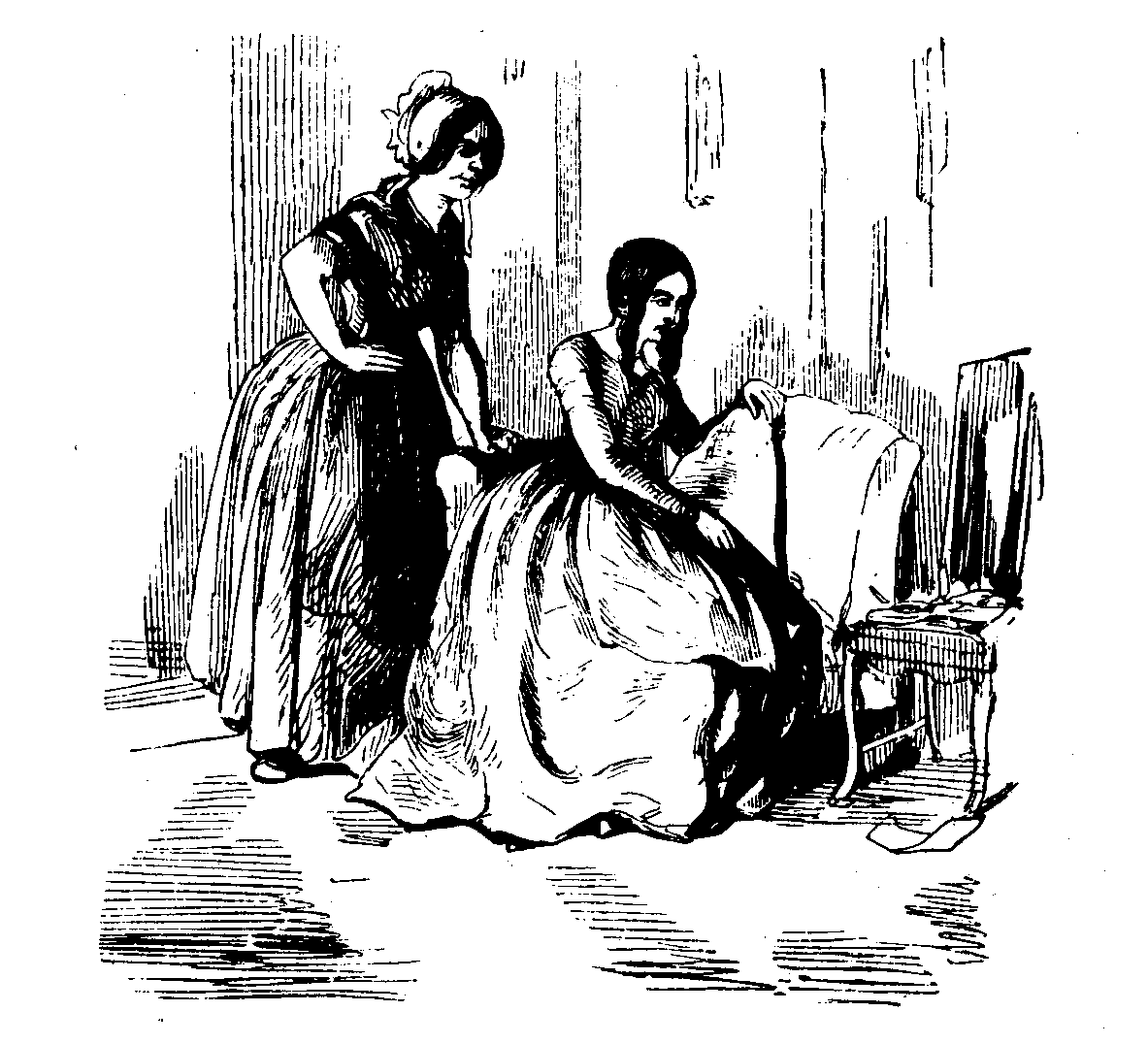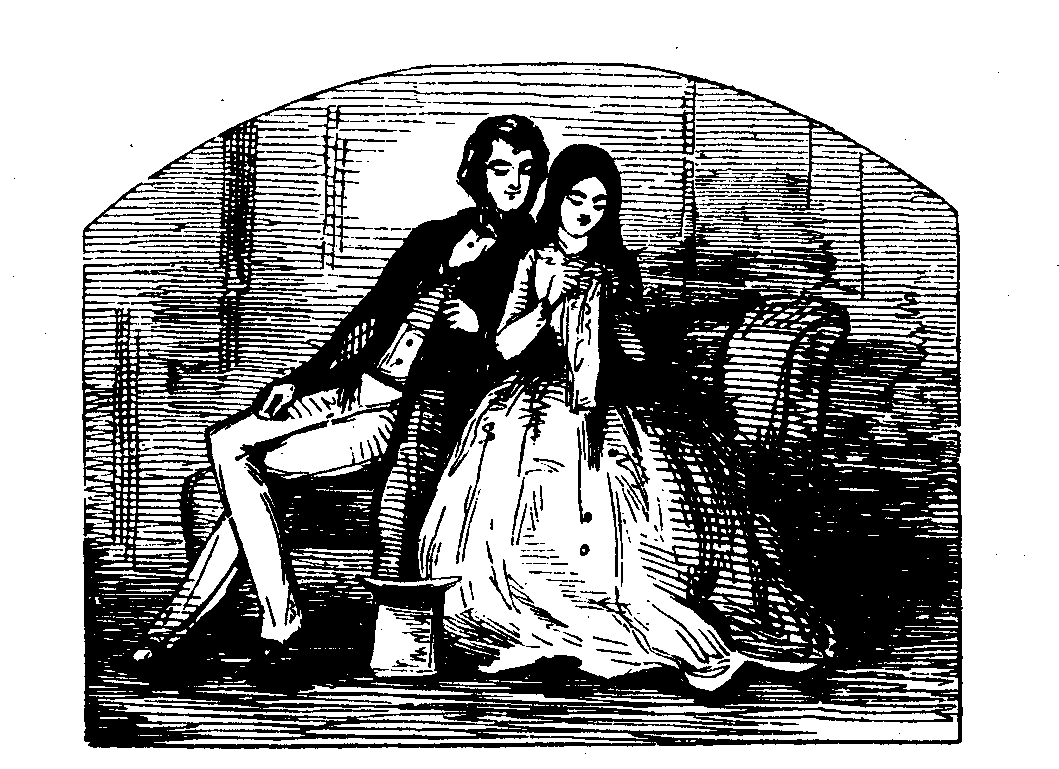о ничего не значит? Боюсь, что нет. И с грустью
признаю, что Браун или Фиц, должно быть, недоумевают. Однажды Фиц упрекнул
меня в письме, что теперь, когда у меня завелись новые друзья, я его не
помню, - то был крик души, призыв сохранять верность. Хоть я ему и возражал,
я знал, что он отчасти прав. Я клялся и клянусь, что люблю его, как прежде,
но ведь теперь я люблю не только его, другие разделили с ним мое сердце.
Покидая Кембридж, я несколько стыдился неумеренности своей привязанности к
нему. Там все это само собой разумелось, дружба цвела и процветала в
идеальных условиях, и было естественно называть его "мой милый Теддибус" и
горевать, если мы расставались больше чем на несколько часов. Дружба была
тогда всепоглощающим занятием и требовала полной самоотдачи, но мыслимо ли
сохранить такую ее исключительность в обычной жизни? Разве только в браке.
Если Фицджералду это грустно, что тут поделаешь? Но пусть не огорчается, мы
снова встретимся в аду и будем добрыми друзьями всю предстоящую нам
вечность.
В моей жизни есть такие периоды, что стоит только захотеть и в памяти
встает все, даже атмосфера моих бывших комнат, но с Кембриджем дело иное. Я
помню, где я жил и что делал, однако все как-то странно мертво для меня.
Отдельные золотые денечки и минуты я и сейчас могу восстановить, но как ни
стараюсь, не в силах охватить все в целом - мне не удается закрыть глаза и
возвратиться в прошлое. Мои воспоминания вымучены и быстро утомляют меня.
Возможно, беспокойство, снедавшее меня тогда, живет и много лет спустя,
поэтому мне не терпится покончить с рассказом об этом времени, как не
терпелось некогда покончить с ним и в жизни. Я рвался из Кембриджа, не зная
куда и зачем, рвался от матушкиных надежд. Я знал лишь, что с меня довольно
единоборства с алгеброй и что никакими радостями студенчества не искупить
чувства собственной несостоятельности. Пусть я разобью матушкино сердце,
решил я, но кончу с этой канителью и не дам себя уверить, будто в следующем
году буду успевать лучше. Еще одного года в Кембридже не будет.
^T3^U
^TГерой радуется жизни в Веймаре и прячется от будущего^U
Если к тому времени, когда вам попадется эта книга, жизнь в обществе
останется такой же, как сегодня, короткая заграничная поездка и тогда будет
считаться непременной частью образования молодого человека. Большое
Путешествие, столь принятое полстолетия назад, в наши дни проходит по
сокращенной программе, но, как и прежде, считается необходимым для
достигшего совершеннолетия юноши. Поездка - часть английского стандарта:
сначала ребенка посылают в приготовительную школу, где он проливает слезы,
затем - в среднюю, чтоб голодом склонить к повиновению, потом - в
университет, чтоб ошарашить смесью невыразимых удовольствий и неслыханных
трудов, и, наконец, прежде чем впихнуть в один из жизненных стереотипов, его
шлют за границу, якобы для того, чтоб он убедился в превосходстве нашей
английской культуры над всеми остальными низшими, а на самом деле - чтоб он
перебесился и тихо покорился жизни. Меня растили по такому же стандарту,
судьба моя была расчислена, и моего согласия не требовалось. Какое еще
согласие? Мальчишка, видимо, рехнулся, откуда ему знать, что ему лучше? Что
за бредовая идея спрашивать у молокососа, чего бы он хотел? Какая чушь!
Мне это не казалось чушью прежде - не кажется и сейчас. Мальчику
необходимо предоставить слово, когда планируют его судьбу. Чтобы из планов
любящих родителей вышло что-нибудь дельное, необходимо его горячее участие,
однако вокруг я вижу сплошное принуждение, ведущее к горю и жизненным
провалам. Джонсу всегда хотелось заниматься правом, и не успел Джонс-младший
появиться на свет, как ему тут же навязали отцовскую мечту, и сколько бы он
ни кричал: "Папа, мне лучше быть солдатом, я люблю битвы и ненавижу книги",
- все бесполезно. Еретик!
Заставьте его замолчать! Вымойте ему с мылом рот! Отец мечтал быть
адвокатом, а дед не разрешил, и значит, адвокатом будешь ты, изволь
радоваться и никаких разговоров. Когда Джонс-младший вырастет и воспитает
сына, он, в свою очередь, пошлет его в солдаты, и как бы тот ни плакал, как
бы ни молил: "Папа, я ненавижу битвы, я люблю книги, я лучше буду..." Нет,
не хочу и слышать, о чем мечтает юный Джонс, - что в том проку, если ему не
миновать солдатчины. Впрочем, порой бывает по-иному, и это еще хуже. Блоггс
- состоятельный виноторговец и очень этим горд. Он создал процветающее дело
и хочет передать его наследнику. Он жаждет, чтобы сын был в точности таким,
как он, любое несогласие воспринимает как измену и следует простому правилу:
"что хорошо для меня, то хорошо и для тебя". Трогательно, правда? Скажите,
почему Джонс-младший не может стать солдатом, адвокатом или кем ему угодно и
отчего Блоггс-младший, при всем своем уважении к отцовскому предприятию, не
может не входить в него? О, если бы мне объяснили, почему!
 У меня все складывалось иначе. Матушке хотелось, чтоб я получил
блестящую ученую степень в качестве первого шага к... - к чему, она сама не
знала, мечты ее так далеко не простирались. Личность она была волевая, но не
сторонница насилия, коль скоро я вырос и мог говорить сам за себя, она
искренне предпочитала разум силе. Со своей стороны, я был, как часто
случается, в нелегком положении юноши, у которого нет ни ярко выраженного
дарования, ни ясной склонности к какому-нибудь делу. Не забывайте, в ту пору
я был еще человеком со средствами, хотя и скромными, но ощутимыми, и ожидал
прибавки в размере трех процентов с капитала, которые с момента
совершеннолетия должен был получать на руки. Следовательно, с выбором
жизненного поприща я мог не торопиться и не преминул воспользоваться этим
счастливым обстоятельством. Зачем спешить, взывал я? Зачем настаивать, чтоб
я вернулся в Кембридж, раз я оказался явно неспособен как раз к тому, к чему
меня определили? Чем плохо оглядеться, поразмыслить и вернуться туда позже,
когда я разберусь в себе и в жизни?
Матушка, видно, верила, что так оно и будет. Позволив мне оставить
Кембридж и провести зиму за границей, она надеялась, что даст мне случай
образумиться: оторванный от "дурного общества", я уразумею преимущества
образования, вернусь в университет, удвою рвение и тотчас удостоюсь золотой
медали за успехи. Признаюсь со стыдом: внушая ей, что так все и получится, я
тщательно скрывал предвкушаемую радость. Озабоченно на меня поглядывая, она
говорила отчиму, что я какой-то бледный, усталый, что я слишком быстро
вытянулся и мне, конечно, нужно отдохнуть и прийти в себя. Возможно, лицо ее
при этом чуть-чуть омрачалось, и она припоминала, что я уже ездил за границу
- я был в Париже на пасхальные каникулы - и что мои письма были полны
рассказами о посещениях Фраскатти (известного игорного дома на улице
Ришелье), разудалых вечеринках и всяких прочих "дурных компаниях". Лучше мне
было не писать ей так откровенно о своих веселых уроках танцев и восторгах
от походов в "Комеди Франсэз"; если бы я сравнивал Нотр-Дам с Эксетерским
собором в пользу последнего и этим ограничился, я бы встревожил ее гораздо
меньше. Мне никогда бы не выбраться из Кембриджа, заведи я речь о зиме в
Париже - quelle horreur! (какой ужас!). Но предложив в виде возможного
варианта маленький, тихий немецкий городок - безразлично, какой именно, - я
усыпил ее тревогу. Вряд ли я сознательно ее обманывал - ведь я не уточнял,
где буду жить и что буду делать; скорее всего, я напирал на то, что мне надо
выучить немецкий, и не старался рассеять ее впечатление, что то будет
степенное, здоровое и, в сущности, скучноватое существование.
Как бы то ни было, ее согласие было получено, и в июле 1830 года, еще
не остыв после провала на экзаменах, я отбыл, по-щенячьи весело отряхивая с
ног прах Кембриджа, с твердым намерением больше туда не возвращаться.
Сначала я поехал в Роттердам, затем по Рейну спустился в Кобленц и, наконец,
в Веймар. Я путешествовал с какими-то случайными знакомыми, но чувствовал,
что я один, и упивался этим ощущением. Возможно, раздраженный и усталый,
после какой-нибудь изнурительной поездки я и сказал в сердцах, что сыт по
горло путешествиями, но если так, беру свои слова обратно; ну, а в том
нежном возрасте, в котором я тогда находился, я обожал путешествовать. Я и
сейчас люблю новые места, будь то хоть крохотная английская деревушка, люблю
в первый раз ходить по улицам, знакомиться с достопримечательностями,
присматриваться к жизни. Путешествуя, я пребываю в мире и покое, как будто
все мои заботы мне привиделись, и пока поезд не сбавит ход, а судно не
пристанет к берегу, я о них не думаю. В 1830 году я не тосковал о
безвестности, о которой стал мечтать позже, мои широкие юные плечи не
гнулись под тяжестью сомнений, возвращаться ли мне в Кембридж, и тем не
менее в пути я ощутил подъем духа и окрылявшую меня свободу от опеки. Один
кембриджский приятель по имени Шульт приобщил меня к удовольствию наблюдать
за дуэлями и пить немецкие вина: однажды я влил в себя шесть бутылок кряду
и, должен признаться, это плохо сказалось на моем пищеварении и утвердило во
мнении, что французские вина лучше немецких. Многое радовало меня в этом
рейнском плавании: что ни день, пейзаж чуть-чуть менялся, мимо проносились
города и деревушки, которые недавно были всего лишь точками на карте. Я
увлеченно рисовал, по большей части, старинные мосты и церкви, стараясь
передать необычайную красоту Рейна, которая почти уравнивает его с Темзой.
Если вы никогда не покидали пределов своей родной страны, мне вас безмерно
жаль -поездка дает ни с чем не сравнимое чувство приключения. Чужие страны
обостряют ощущение родного края, которое бодрит и просвещает нас. Лишь
путешествуя, я осознал, что значит для меня Англия и что она дает мне,
насколько я неотделим от ее земли, домов, людей, насколько она часть моей
души. Когда я гляжу сейчас из своего окна и вижу самый что ни на есть
английский пейзаж - второго такого нет нигде на свете, - я чувствую
громадное удовлетворение: он мой, английский, и благодаря поездкам я знаю,
что это такое. (Кажется, я разразился патриотической речью, иначе ее никак
не назовешь.)
Чем больше я думаю о Веймаре, а думать мне о нем приятно, я был там
счастлив, - тем удивительней мне кажется, что из всех городов Германии я
выбрал именно его. Помнится, мне посоветовал его приятель, но что за
требования я выдвинул, подсказавшие ему мысль о Веймаре? Он не был похож ни
на одно другое место в Германии и скорее составлял исключение: странная,
тихая заводь - как из другого века - с особым ритмом жизни. Здесь все было
миниатюрное, какое-то очень четкое и удивительно надежное. Как он ни был
мал, в нем было решительно все, даже свой двор, для которого правящий герцог
устраивал торжественные приемы и балы. Я жил в почтенном семействе и
ежедневно посещал учителя немецкого языка, досточтимого доктора
Вайссенборна, у которого быстро делал успехи. Общество в городе было
отменное и довольно открытое, я даже появлялся при дворе в перешитых
панталонах, черной жилетке, черном сюртуке и треуголке, являя собой смесь
лакея с методистским пастором. Мучимый страхом, что в таком виде я очень
смешон, я уговорил матушку выслать мне лейб-гвардейскую форму, которую носил
с великим шиком и важностью, словно, по меньшей мере, генеральскую. Пожалуй,
в душе я надеялся, что так все и подумают: великий английский полководец,
генерал Теккерей, недавно вернувшийся после такой-то военной кампании... -
вот только кампании никакой нигде не было.
Надеюсь, вы не в обиде, что я полюбил Веймар больше Кембриджа, ведь я
уже продемонстрировал вам свой патриотизм. Дело было не в том, что в этом
городе со мной произошло чудо и я почувствовал себя счастливым, дело было в
свободе поступать как хочется, в независимости в самом широком смысле слова.
Удивительное дело, я пишу "свобода поступать как хочется", и это вовсе не
эвфемизм, чтоб намекнуть на дни, проведенные в постели, и бражничанье по
ночам. Ничего похожего - усердие мое было примерным. Я упорно трудился над
немецким языком и, когда не боролся с его синтаксисом, читал Шиллера, Гете и
других великих немцев. В городе был чудесный театр - какая неожиданность, не
правда ли? - и чуть ли не каждый вечер я отправлялся слушать драмы и оперы,
звучавшие по-немецки. Моя светская жизнь складывалась из разговоров на общие
темы с немцами постарше и из развлечений в кругу сверстников - вторых было
гораздо больше, о чем я не жалею. То была жизнь, которой мне хотелось:
приятная, легкая, беззаботная, с разумной мерой забав и удовольствий и
скромной толикой труда, дававшей мне и моим близким ощущение, что я не трачу
время понапрасну. Возможно, вы считаете такую жизнь безнравственной, и
бесконечное потворство еще не достигшему совершеннолетия юноше вызывает у
вас гнев, в таком случае вам необходимо разобраться в своих взглядах. Я не
могу поверить, что вредно быть счастливым, если никто от этого не страдает.
Неужто лучше было возвратиться в Кембридж и биться над тем, чего я не любил
и не умел? Сидящий в вас пуританин, возможно, скажет "да", но я с ним не
соглашусь.
В Веймаре я, делал литературные записи, но в тетради того времени нет
перлов, которые я там надеялся найти, она меня скорей смутила, и я рад, что
ее можно спрятать подальше. Теперь вы понимаете, из-за чего я предпочел сам
писать о своей жизни? В занятии этом нет ничего нечестного, хоть невозможно
избежать многозначительной болтовни о прошлом, - боюсь, что с высоты своей
нынешней позиции я то и дело донимаю ею молодежь. Кроме разных историй, по
большей части незаконченных, полных поэтических "ахов", "охов" и вздохов, в
этой тетради нет ничего интересного, одни лишь обрывки пьес, обнаруживающие
полную неспособность автора к написанию диалогов, и длинные цитаты из
восхитивших меня немецких сочинений. Во всяком случае, там нет ничего, что
стоило бы процитировать, разве только стихотворение "Звезды", напечатанное в
журнале "Хаос", - его я не стыжусь и привожу как доказательство того, что
пробовал свои силы и в серьезном жанре.
�ЗВЕЗДЫ �
Только мы смежаем веки -
В небе звезды высыпают,
И лучей своих глаза
Вниз на землю устремляют.
Иероглифы судьбы
Мы в их россыпи читаем,
И надежды, и мольбы
К ним в тревоге воссылаем.
Тот, кто смотрит с вышины
И покой наш охраняет,
Видит все - и наши сны
Милосердно наблюдает.
Наверное, оно не так прекрасно в чтении, как мне тогда казалось, и мне
бы следовало подчеркнуть свою неопытность и молодость, но что это за
оправдание? Поэтому я лучше помолчу.
Не показалось ли вам странным, что я довел рассказ до двадцати одного
года, ни разу не упомянув о романтической привязанности? Кроме моей
достойной матушки, ни одна особа не украсила собой моей повести, и я
согласен с вами, что это неестественно - дожить до двадцати одного года, ни
разу не влюбившись. Что же меня останавливало? Да ничего, просто не
представлялось случая. До Веймара я почти не приближался к прекрасным юным
дамам: хотя мои мысли и устремлялись к ним, я не имел конкретного предмета.
Пожалуй, было бы излишне упоминать о молодой особе по имени Лэдд из
кембриджской лавки, которая так меня пленила, что я купил у нее пару
бронзовых подсвечников, - даже романисту трудно что-либо выжать из такого
скудного материала. Долгие годы я боготворил женщин - всегда боготворил и
всегда буду - боготворил, не сказав ни единого слова ни с одной из них,
подумать только, даже не коснувшись руки. Конечно, вы заметили огромное
яркое полотнище, которое реет над моей головой? Я обещал вам в случаях
неполной искренности давать предупреждающий сигнал, и этот флаг полощется
сейчас по той причине, что я не собираюсь обременять вас неаппетитными
подробностями о своих подвигах среди женщин, с которыми мне лучше было бы не
знаться. Довольно лишь заметить, что, прежде чем познакомиться с достойными
молодыми леди, я ненадолго свел знакомство с недостойными и был весьма
встревожен и напуган этими последними. Правду сказать, женщины занимали
немалое место в моей жизни. В Веймаре я только и думал, что о прекрасных
дамах, даже предупредил матушку, что в любую минуту могу явиться домой с
новоиспеченной миссис Теккерей под руку. Конечно, то была шутка, я бы не
говорил об этом так легко, если бы всерьез помышлял о чем-либо подобном, но
две юные веймарские красавицы и в самом деле держали меня в блаженном плену
влюбленности все мои дни в Германии. Одна была Мелани фон Шпигель, вторая -
Дженни фон Паппенхейм.
У меня все складывалось иначе. Матушке хотелось, чтоб я получил
блестящую ученую степень в качестве первого шага к... - к чему, она сама не
знала, мечты ее так далеко не простирались. Личность она была волевая, но не
сторонница насилия, коль скоро я вырос и мог говорить сам за себя, она
искренне предпочитала разум силе. Со своей стороны, я был, как часто
случается, в нелегком положении юноши, у которого нет ни ярко выраженного
дарования, ни ясной склонности к какому-нибудь делу. Не забывайте, в ту пору
я был еще человеком со средствами, хотя и скромными, но ощутимыми, и ожидал
прибавки в размере трех процентов с капитала, которые с момента
совершеннолетия должен был получать на руки. Следовательно, с выбором
жизненного поприща я мог не торопиться и не преминул воспользоваться этим
счастливым обстоятельством. Зачем спешить, взывал я? Зачем настаивать, чтоб
я вернулся в Кембридж, раз я оказался явно неспособен как раз к тому, к чему
меня определили? Чем плохо оглядеться, поразмыслить и вернуться туда позже,
когда я разберусь в себе и в жизни?
Матушка, видно, верила, что так оно и будет. Позволив мне оставить
Кембридж и провести зиму за границей, она надеялась, что даст мне случай
образумиться: оторванный от "дурного общества", я уразумею преимущества
образования, вернусь в университет, удвою рвение и тотчас удостоюсь золотой
медали за успехи. Признаюсь со стыдом: внушая ей, что так все и получится, я
тщательно скрывал предвкушаемую радость. Озабоченно на меня поглядывая, она
говорила отчиму, что я какой-то бледный, усталый, что я слишком быстро
вытянулся и мне, конечно, нужно отдохнуть и прийти в себя. Возможно, лицо ее
при этом чуть-чуть омрачалось, и она припоминала, что я уже ездил за границу
- я был в Париже на пасхальные каникулы - и что мои письма были полны
рассказами о посещениях Фраскатти (известного игорного дома на улице
Ришелье), разудалых вечеринках и всяких прочих "дурных компаниях". Лучше мне
было не писать ей так откровенно о своих веселых уроках танцев и восторгах
от походов в "Комеди Франсэз"; если бы я сравнивал Нотр-Дам с Эксетерским
собором в пользу последнего и этим ограничился, я бы встревожил ее гораздо
меньше. Мне никогда бы не выбраться из Кембриджа, заведи я речь о зиме в
Париже - quelle horreur! (какой ужас!). Но предложив в виде возможного
варианта маленький, тихий немецкий городок - безразлично, какой именно, - я
усыпил ее тревогу. Вряд ли я сознательно ее обманывал - ведь я не уточнял,
где буду жить и что буду делать; скорее всего, я напирал на то, что мне надо
выучить немецкий, и не старался рассеять ее впечатление, что то будет
степенное, здоровое и, в сущности, скучноватое существование.
Как бы то ни было, ее согласие было получено, и в июле 1830 года, еще
не остыв после провала на экзаменах, я отбыл, по-щенячьи весело отряхивая с
ног прах Кембриджа, с твердым намерением больше туда не возвращаться.
Сначала я поехал в Роттердам, затем по Рейну спустился в Кобленц и, наконец,
в Веймар. Я путешествовал с какими-то случайными знакомыми, но чувствовал,
что я один, и упивался этим ощущением. Возможно, раздраженный и усталый,
после какой-нибудь изнурительной поездки я и сказал в сердцах, что сыт по
горло путешествиями, но если так, беру свои слова обратно; ну, а в том
нежном возрасте, в котором я тогда находился, я обожал путешествовать. Я и
сейчас люблю новые места, будь то хоть крохотная английская деревушка, люблю
в первый раз ходить по улицам, знакомиться с достопримечательностями,
присматриваться к жизни. Путешествуя, я пребываю в мире и покое, как будто
все мои заботы мне привиделись, и пока поезд не сбавит ход, а судно не
пристанет к берегу, я о них не думаю. В 1830 году я не тосковал о
безвестности, о которой стал мечтать позже, мои широкие юные плечи не
гнулись под тяжестью сомнений, возвращаться ли мне в Кембридж, и тем не
менее в пути я ощутил подъем духа и окрылявшую меня свободу от опеки. Один
кембриджский приятель по имени Шульт приобщил меня к удовольствию наблюдать
за дуэлями и пить немецкие вина: однажды я влил в себя шесть бутылок кряду
и, должен признаться, это плохо сказалось на моем пищеварении и утвердило во
мнении, что французские вина лучше немецких. Многое радовало меня в этом
рейнском плавании: что ни день, пейзаж чуть-чуть менялся, мимо проносились
города и деревушки, которые недавно были всего лишь точками на карте. Я
увлеченно рисовал, по большей части, старинные мосты и церкви, стараясь
передать необычайную красоту Рейна, которая почти уравнивает его с Темзой.
Если вы никогда не покидали пределов своей родной страны, мне вас безмерно
жаль -поездка дает ни с чем не сравнимое чувство приключения. Чужие страны
обостряют ощущение родного края, которое бодрит и просвещает нас. Лишь
путешествуя, я осознал, что значит для меня Англия и что она дает мне,
насколько я неотделим от ее земли, домов, людей, насколько она часть моей
души. Когда я гляжу сейчас из своего окна и вижу самый что ни на есть
английский пейзаж - второго такого нет нигде на свете, - я чувствую
громадное удовлетворение: он мой, английский, и благодаря поездкам я знаю,
что это такое. (Кажется, я разразился патриотической речью, иначе ее никак
не назовешь.)
Чем больше я думаю о Веймаре, а думать мне о нем приятно, я был там
счастлив, - тем удивительней мне кажется, что из всех городов Германии я
выбрал именно его. Помнится, мне посоветовал его приятель, но что за
требования я выдвинул, подсказавшие ему мысль о Веймаре? Он не был похож ни
на одно другое место в Германии и скорее составлял исключение: странная,
тихая заводь - как из другого века - с особым ритмом жизни. Здесь все было
миниатюрное, какое-то очень четкое и удивительно надежное. Как он ни был
мал, в нем было решительно все, даже свой двор, для которого правящий герцог
устраивал торжественные приемы и балы. Я жил в почтенном семействе и
ежедневно посещал учителя немецкого языка, досточтимого доктора
Вайссенборна, у которого быстро делал успехи. Общество в городе было
отменное и довольно открытое, я даже появлялся при дворе в перешитых
панталонах, черной жилетке, черном сюртуке и треуголке, являя собой смесь
лакея с методистским пастором. Мучимый страхом, что в таком виде я очень
смешон, я уговорил матушку выслать мне лейб-гвардейскую форму, которую носил
с великим шиком и важностью, словно, по меньшей мере, генеральскую. Пожалуй,
в душе я надеялся, что так все и подумают: великий английский полководец,
генерал Теккерей, недавно вернувшийся после такой-то военной кампании... -
вот только кампании никакой нигде не было.
Надеюсь, вы не в обиде, что я полюбил Веймар больше Кембриджа, ведь я
уже продемонстрировал вам свой патриотизм. Дело было не в том, что в этом
городе со мной произошло чудо и я почувствовал себя счастливым, дело было в
свободе поступать как хочется, в независимости в самом широком смысле слова.
Удивительное дело, я пишу "свобода поступать как хочется", и это вовсе не
эвфемизм, чтоб намекнуть на дни, проведенные в постели, и бражничанье по
ночам. Ничего похожего - усердие мое было примерным. Я упорно трудился над
немецким языком и, когда не боролся с его синтаксисом, читал Шиллера, Гете и
других великих немцев. В городе был чудесный театр - какая неожиданность, не
правда ли? - и чуть ли не каждый вечер я отправлялся слушать драмы и оперы,
звучавшие по-немецки. Моя светская жизнь складывалась из разговоров на общие
темы с немцами постарше и из развлечений в кругу сверстников - вторых было
гораздо больше, о чем я не жалею. То была жизнь, которой мне хотелось:
приятная, легкая, беззаботная, с разумной мерой забав и удовольствий и
скромной толикой труда, дававшей мне и моим близким ощущение, что я не трачу
время понапрасну. Возможно, вы считаете такую жизнь безнравственной, и
бесконечное потворство еще не достигшему совершеннолетия юноше вызывает у
вас гнев, в таком случае вам необходимо разобраться в своих взглядах. Я не
могу поверить, что вредно быть счастливым, если никто от этого не страдает.
Неужто лучше было возвратиться в Кембридж и биться над тем, чего я не любил
и не умел? Сидящий в вас пуританин, возможно, скажет "да", но я с ним не
соглашусь.
В Веймаре я, делал литературные записи, но в тетради того времени нет
перлов, которые я там надеялся найти, она меня скорей смутила, и я рад, что
ее можно спрятать подальше. Теперь вы понимаете, из-за чего я предпочел сам
писать о своей жизни? В занятии этом нет ничего нечестного, хоть невозможно
избежать многозначительной болтовни о прошлом, - боюсь, что с высоты своей
нынешней позиции я то и дело донимаю ею молодежь. Кроме разных историй, по
большей части незаконченных, полных поэтических "ахов", "охов" и вздохов, в
этой тетради нет ничего интересного, одни лишь обрывки пьес, обнаруживающие
полную неспособность автора к написанию диалогов, и длинные цитаты из
восхитивших меня немецких сочинений. Во всяком случае, там нет ничего, что
стоило бы процитировать, разве только стихотворение "Звезды", напечатанное в
журнале "Хаос", - его я не стыжусь и привожу как доказательство того, что
пробовал свои силы и в серьезном жанре.
�ЗВЕЗДЫ �
Только мы смежаем веки -
В небе звезды высыпают,
И лучей своих глаза
Вниз на землю устремляют.
Иероглифы судьбы
Мы в их россыпи читаем,
И надежды, и мольбы
К ним в тревоге воссылаем.
Тот, кто смотрит с вышины
И покой наш охраняет,
Видит все - и наши сны
Милосердно наблюдает.
Наверное, оно не так прекрасно в чтении, как мне тогда казалось, и мне
бы следовало подчеркнуть свою неопытность и молодость, но что это за
оправдание? Поэтому я лучше помолчу.
Не показалось ли вам странным, что я довел рассказ до двадцати одного
года, ни разу не упомянув о романтической привязанности? Кроме моей
достойной матушки, ни одна особа не украсила собой моей повести, и я
согласен с вами, что это неестественно - дожить до двадцати одного года, ни
разу не влюбившись. Что же меня останавливало? Да ничего, просто не
представлялось случая. До Веймара я почти не приближался к прекрасным юным
дамам: хотя мои мысли и устремлялись к ним, я не имел конкретного предмета.
Пожалуй, было бы излишне упоминать о молодой особе по имени Лэдд из
кембриджской лавки, которая так меня пленила, что я купил у нее пару
бронзовых подсвечников, - даже романисту трудно что-либо выжать из такого
скудного материала. Долгие годы я боготворил женщин - всегда боготворил и
всегда буду - боготворил, не сказав ни единого слова ни с одной из них,
подумать только, даже не коснувшись руки. Конечно, вы заметили огромное
яркое полотнище, которое реет над моей головой? Я обещал вам в случаях
неполной искренности давать предупреждающий сигнал, и этот флаг полощется
сейчас по той причине, что я не собираюсь обременять вас неаппетитными
подробностями о своих подвигах среди женщин, с которыми мне лучше было бы не
знаться. Довольно лишь заметить, что, прежде чем познакомиться с достойными
молодыми леди, я ненадолго свел знакомство с недостойными и был весьма
встревожен и напуган этими последними. Правду сказать, женщины занимали
немалое место в моей жизни. В Веймаре я только и думал, что о прекрасных
дамах, даже предупредил матушку, что в любую минуту могу явиться домой с
новоиспеченной миссис Теккерей под руку. Конечно, то была шутка, я бы не
говорил об этом так легко, если бы всерьез помышлял о чем-либо подобном, но
две юные веймарские красавицы и в самом деле держали меня в блаженном плену
влюбленности все мои дни в Германии. Одна была Мелани фон Шпигель, вторая -
Дженни фон Паппенхейм.
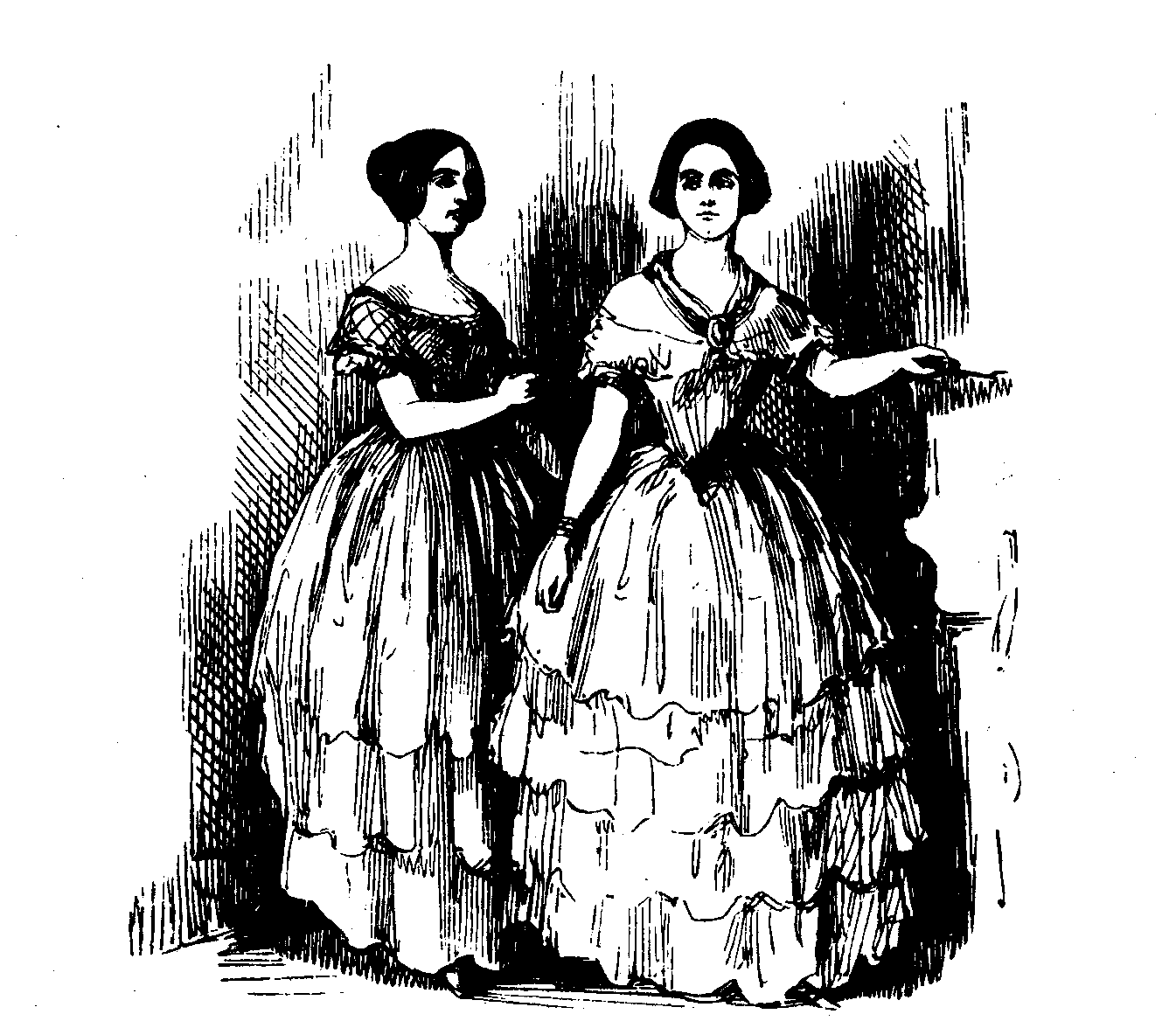 Старики охотно вспоминают ушедшую любовь, особенно ту, что не доставила
им боли. Они так нежно, любовно выговаривая то или иное имя, рассказывают о
юных девах, которых считанные дни дарили своим вниманием, что сразу
становится ясно: за этим нет реальной подоплеки. Таков и я. Я знал в жизни
подлинные чувства, которые мне больно облекать в слова, но о Мелани и Дженни
я вспоминаю очень весело, от души посмеиваясь над своей влюбленностью. Ни
та, ни другая не высекли не только пламени, но даже искры из моей души, и уж
конечно, не проникли в ее тайники. Мое чувство к ним вряд ли заслуживает
называться любовью - вам это, конечно, ясно. Они были миленькие, нежные,
изящно одевались и, шествуя по Веймару, пожинали комплименты - полагалось
безнадежно влюбиться в одну из них или в обеих сразу. Как юный англичанин я
был на виду, хоть старые аристократки, которыми кишмя кишел Веймар,
проведав, что я не милорд и не наследник сказочного состояния, меня не
признавали. Однако меня охотно приглашали на разные светские приемы и балы,
и добрый старый гофмаршал тех времен привечал меня и не мешал посещать все
официальные торжества. Пожалуй, предметом моего поклонения была его дочь
Мелани, а не Дженни, хоть я бы не отверг и Дженни, пади она к моим ногам,
как постоянно случалось в моих грезах.
Я был одним из многих, сраженных чарами Мелани, и откровенно за ней
ухаживал, если только тут годится это слово; в душе я был уверен, что мы
обмениваемся самыми утонченными знаками любовной страсти. Разве не на мне ее
голубые глаза задерживались дольше всех? Разве не мне предназначалась ее
едва приметная улыбка? И кто посмеет спорить, что именно к моим речам, к
моим оригинальным суждениям о Шиллере, Гете и "Фаусте" она чаще всего
склоняла слух? Все это так, но несмотря на явное предпочтение, оказанное
моей особе, юная леди вышла замуж за другого.
Я как-то встретил дорогую Мелани спустя долгие годы после той памятной
зимы в крохотной саксонской столице. То было в Италии, кажется в Венеции,
где я жил в гостинице со своими девочками. Проглядывая книгу постояльцев, я
заметил фамилию, которую, как ясно помнил, носила Мелани в замужестве. С
некоторой неуверенностью и даже трепетом я обратился к официанту с просьбой
указать мне носительницу имени; кого, вы думаете, он мне указал? Тучную и
безобразную матрону, молча поглощавшую вареное яйцо. Жестокость этого
зрелища сразила меня, я испытал смятение, и как ни упрашивали меня девочки,
заинтригованные моими романтическими воспоминаниями, чувствовал себя не в
силах возобновить знакомство. Ужасно было видеть причиненные временем
разрушения; не только черты лица, когда-то нежные, теперь отяжелели и
погрузнела прежде стройная фигура, но переменился весь ее облик. Она стала
заурядной, малоподвижной, дряблой, померк и ореол, и красота; когда я
оправился от первого впечатления, я чуть не зарыдал над разыгравшейся
трагедией. Я понимаю, что был глуп: Мелани, наверно, была счастлива, должно
быть, даже не заметила случившейся с ней перемены, а если и заметила, из-за
чего ей было плакать? Нельзя всю жизнь оставаться прелестной и
восемнадцатилетней, хотя я видел женщин, которым это удавалось: морщины и
седые волосы не помешали им сберечь очарование. Но Мелани была не из их
числа, и я не смел показывать ей свое огорчение. И все же мне хотелось
помнить ее такой, как прежде, не омрачая прошлого. Я твердо верю, что где-то
в ином мире мы все еще флиртуем: холодной зимней ночью в двухместном экипаже
мы катим по снегу во дворец, без умолку болтаем и неотрывно смотрим друг на
друга. Бродя по закоулкам памяти, я и сейчас могу увидеть, какими мы были и
как прелестно выглядели; там, бережно укрытых в прошлом, я и намерен нас
оставить. Тучная дама из Венеции не имеет ко всему этому ни малейшего
отношения, я не позволю ей вмешиваться и навязывать мне настоящее. Мелани,
которую я знал, пребудет в моей памяти такой, как прежде.
Старики охотно вспоминают ушедшую любовь, особенно ту, что не доставила
им боли. Они так нежно, любовно выговаривая то или иное имя, рассказывают о
юных девах, которых считанные дни дарили своим вниманием, что сразу
становится ясно: за этим нет реальной подоплеки. Таков и я. Я знал в жизни
подлинные чувства, которые мне больно облекать в слова, но о Мелани и Дженни
я вспоминаю очень весело, от души посмеиваясь над своей влюбленностью. Ни
та, ни другая не высекли не только пламени, но даже искры из моей души, и уж
конечно, не проникли в ее тайники. Мое чувство к ним вряд ли заслуживает
называться любовью - вам это, конечно, ясно. Они были миленькие, нежные,
изящно одевались и, шествуя по Веймару, пожинали комплименты - полагалось
безнадежно влюбиться в одну из них или в обеих сразу. Как юный англичанин я
был на виду, хоть старые аристократки, которыми кишмя кишел Веймар,
проведав, что я не милорд и не наследник сказочного состояния, меня не
признавали. Однако меня охотно приглашали на разные светские приемы и балы,
и добрый старый гофмаршал тех времен привечал меня и не мешал посещать все
официальные торжества. Пожалуй, предметом моего поклонения была его дочь
Мелани, а не Дженни, хоть я бы не отверг и Дженни, пади она к моим ногам,
как постоянно случалось в моих грезах.
Я был одним из многих, сраженных чарами Мелани, и откровенно за ней
ухаживал, если только тут годится это слово; в душе я был уверен, что мы
обмениваемся самыми утонченными знаками любовной страсти. Разве не на мне ее
голубые глаза задерживались дольше всех? Разве не мне предназначалась ее
едва приметная улыбка? И кто посмеет спорить, что именно к моим речам, к
моим оригинальным суждениям о Шиллере, Гете и "Фаусте" она чаще всего
склоняла слух? Все это так, но несмотря на явное предпочтение, оказанное
моей особе, юная леди вышла замуж за другого.
Я как-то встретил дорогую Мелани спустя долгие годы после той памятной
зимы в крохотной саксонской столице. То было в Италии, кажется в Венеции,
где я жил в гостинице со своими девочками. Проглядывая книгу постояльцев, я
заметил фамилию, которую, как ясно помнил, носила Мелани в замужестве. С
некоторой неуверенностью и даже трепетом я обратился к официанту с просьбой
указать мне носительницу имени; кого, вы думаете, он мне указал? Тучную и
безобразную матрону, молча поглощавшую вареное яйцо. Жестокость этого
зрелища сразила меня, я испытал смятение, и как ни упрашивали меня девочки,
заинтригованные моими романтическими воспоминаниями, чувствовал себя не в
силах возобновить знакомство. Ужасно было видеть причиненные временем
разрушения; не только черты лица, когда-то нежные, теперь отяжелели и
погрузнела прежде стройная фигура, но переменился весь ее облик. Она стала
заурядной, малоподвижной, дряблой, померк и ореол, и красота; когда я
оправился от первого впечатления, я чуть не зарыдал над разыгравшейся
трагедией. Я понимаю, что был глуп: Мелани, наверно, была счастлива, должно
быть, даже не заметила случившейся с ней перемены, а если и заметила, из-за
чего ей было плакать? Нельзя всю жизнь оставаться прелестной и
восемнадцатилетней, хотя я видел женщин, которым это удавалось: морщины и
седые волосы не помешали им сберечь очарование. Но Мелани была не из их
числа, и я не смел показывать ей свое огорчение. И все же мне хотелось
помнить ее такой, как прежде, не омрачая прошлого. Я твердо верю, что где-то
в ином мире мы все еще флиртуем: холодной зимней ночью в двухместном экипаже
мы катим по снегу во дворец, без умолку болтаем и неотрывно смотрим друг на
друга. Бродя по закоулкам памяти, я и сейчас могу увидеть, какими мы были и
как прелестно выглядели; там, бережно укрытых в прошлом, я и намерен нас
оставить. Тучная дама из Венеции не имеет ко всему этому ни малейшего
отношения, я не позволю ей вмешиваться и навязывать мне настоящее. Мелани,
которую я знал, пребудет в моей памяти такой, как прежде.
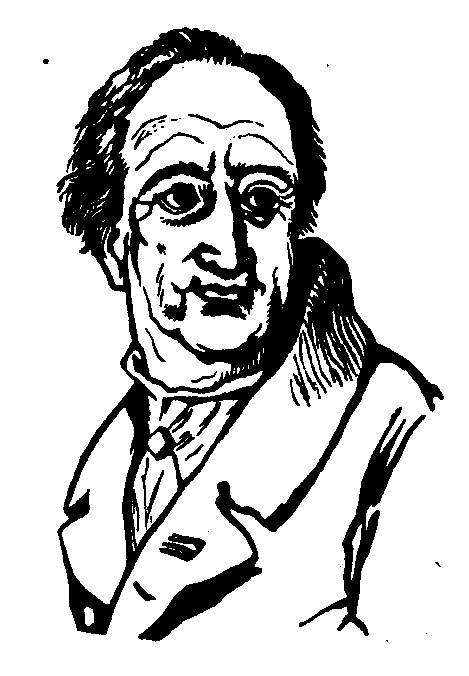 Кроме переполнявшего меня чувства счастья, пережитого самым
цивилизованным из всех доступных мне способов, от той поры остались и
другие, не столь противоречивые воспоминания. В Веймаре я видел, вернее,
посетил великого Гете и стал владельцем шпаги Шиллера. Что еще нужно
человеку, чтобы сойти в могилу с чувством собственной значительности? И то,
и другое доставило мне огромное удовольствие. Гете, официально удалившийся
от света, в ту пору еще принимал в своих апартаментах и сохранял интерес ко
всему новому. Когда его невестка сказала, что он заметил и одобрил мои шаржи
- я рисовал их для ее детей - и будет рад со мной познакомиться, я пришел в
необычайное волнение. Мы встретились и разговаривали, он задал мне несколько
вопросов, касавшихся моей особы, при этом не происходило ничего
значительного, но я доныне помню зоркий взгляд его темных глаз и звучный,
мягкий голос. Не думаю, что стыдно благоговеть перед истинно великим и
чувствовать себя польщенным, если вами интересуется великий человек.
Радоваться его вниманию нисколько не снобизм, а выражение смирения. Это
совсем не то, что раболепствовать перед ничтожеством, которое может
оказаться вам полезно, или ломаться ради выскочки. Гете в свое время был
легендой, и, преклоняясь перед ним, я вел себя как должно - думаю, меня за
это следует хвалить, а не ругать.
С тех пор прошло более тридцати лет, я путешествовал по разным странам,
бывал в различных обществах, но, кажется, нигде не встречал такого
простодушного и обходительного городка, как Веймар. Вы скажете, что в
воспоминаниях все выглядит иначе. Конечно, память неизбежно искажает и
отсеивает прошлое: мы помним события одного года, предав забвению другой.
Могу лишь сказать, что Веймар я любил тогда и еще больше люблю сейчас, когда
того, прежнего больше нет на свете, а это что-нибудь да значит. Я так любил
и город; и его обитателей, что и доныне жил бы там, если бы матушка не
извлекла меня из него, как устрицу из раковины. Все это время в ее письмах
звучал один и тот же рефрен: пора думать о будущем - оно висело надо мной,
словно дамоклов меч. Ее, конечно, радовало, что мне хорошо в Германии, но ни
одно ее письмо не обходилось без напоминания, что Веймар - только
промежуточная станция и, дескать, пора подумать, чем я буду заниматься
дальше. Чаще всего я пропускал ее слова мимо ушей и наводнял свои послания
восторженными рассказами о книгах и спектаклях. В ответ она допытывалась,
отчего я не отвечаю на ее вопросы и читал ли я ее последнее письмо. Пора
было высказаться, тянуть больше было невозможно.
Порой бывает трудно вспомнить, как случилось, что мы приняли то или
иное важное решение, - к примеру, я не помню, как появилась мысль о Веймаре,
- но в данном случае я очень ясно помню, как с удивлявшей меня самого
твердостью не поддавался матушкиным уговорам вернуться в Кембридж. Я не был
упрямым и неблагодарным сыном, я любил матушку и верил, что она желает мне
добра, но если до сих пор я без возражений поступал, как зелено, и
подчинялся даже с удовольствием, то теперь чувствовал, что должен твердо
стоять на своем. Надеюсь, я написал об этом матушке со всей подобающей
почтительностью, хотя, наверное, своевольный тон нет-нет да прорывался в
моих письмах. Увы, я не умею бесстрастно рассуждать о том, что меня задевает
за живое. Мне так хотелось сесть и написать ей, спокойно, по порядку
изложить все доводы, но, взявшись за письмо, я начинал горячиться и палил из
всех пушек сразу. Мало-помалу бедная женщина осознала, что в Кембридж ей
меня не вернуть ни для продолжения прежнего курса наук, ни для поступления в
новый колледж, и мудро, хоть и не без грусти, смирившись с моим упрямством,
направила свои усилия в другую сторону.
Кроме переполнявшего меня чувства счастья, пережитого самым
цивилизованным из всех доступных мне способов, от той поры остались и
другие, не столь противоречивые воспоминания. В Веймаре я видел, вернее,
посетил великого Гете и стал владельцем шпаги Шиллера. Что еще нужно
человеку, чтобы сойти в могилу с чувством собственной значительности? И то,
и другое доставило мне огромное удовольствие. Гете, официально удалившийся
от света, в ту пору еще принимал в своих апартаментах и сохранял интерес ко
всему новому. Когда его невестка сказала, что он заметил и одобрил мои шаржи
- я рисовал их для ее детей - и будет рад со мной познакомиться, я пришел в
необычайное волнение. Мы встретились и разговаривали, он задал мне несколько
вопросов, касавшихся моей особы, при этом не происходило ничего
значительного, но я доныне помню зоркий взгляд его темных глаз и звучный,
мягкий голос. Не думаю, что стыдно благоговеть перед истинно великим и
чувствовать себя польщенным, если вами интересуется великий человек.
Радоваться его вниманию нисколько не снобизм, а выражение смирения. Это
совсем не то, что раболепствовать перед ничтожеством, которое может
оказаться вам полезно, или ломаться ради выскочки. Гете в свое время был
легендой, и, преклоняясь перед ним, я вел себя как должно - думаю, меня за
это следует хвалить, а не ругать.
С тех пор прошло более тридцати лет, я путешествовал по разным странам,
бывал в различных обществах, но, кажется, нигде не встречал такого
простодушного и обходительного городка, как Веймар. Вы скажете, что в
воспоминаниях все выглядит иначе. Конечно, память неизбежно искажает и
отсеивает прошлое: мы помним события одного года, предав забвению другой.
Могу лишь сказать, что Веймар я любил тогда и еще больше люблю сейчас, когда
того, прежнего больше нет на свете, а это что-нибудь да значит. Я так любил
и город; и его обитателей, что и доныне жил бы там, если бы матушка не
извлекла меня из него, как устрицу из раковины. Все это время в ее письмах
звучал один и тот же рефрен: пора думать о будущем - оно висело надо мной,
словно дамоклов меч. Ее, конечно, радовало, что мне хорошо в Германии, но ни
одно ее письмо не обходилось без напоминания, что Веймар - только
промежуточная станция и, дескать, пора подумать, чем я буду заниматься
дальше. Чаще всего я пропускал ее слова мимо ушей и наводнял свои послания
восторженными рассказами о книгах и спектаклях. В ответ она допытывалась,
отчего я не отвечаю на ее вопросы и читал ли я ее последнее письмо. Пора
было высказаться, тянуть больше было невозможно.
Порой бывает трудно вспомнить, как случилось, что мы приняли то или
иное важное решение, - к примеру, я не помню, как появилась мысль о Веймаре,
- но в данном случае я очень ясно помню, как с удивлявшей меня самого
твердостью не поддавался матушкиным уговорам вернуться в Кембридж. Я не был
упрямым и неблагодарным сыном, я любил матушку и верил, что она желает мне
добра, но если до сих пор я без возражений поступал, как зелено, и
подчинялся даже с удовольствием, то теперь чувствовал, что должен твердо
стоять на своем. Надеюсь, я написал об этом матушке со всей подобающей
почтительностью, хотя, наверное, своевольный тон нет-нет да прорывался в
моих письмах. Увы, я не умею бесстрастно рассуждать о том, что меня задевает
за живое. Мне так хотелось сесть и написать ей, спокойно, по порядку
изложить все доводы, но, взявшись за письмо, я начинал горячиться и палил из
всех пушек сразу. Мало-помалу бедная женщина осознала, что в Кембридж ей
меня не вернуть ни для продолжения прежнего курса наук, ни для поступления в
новый колледж, и мудро, хоть и не без грусти, смирившись с моим упрямством,
направила свои усилия в другую сторону.
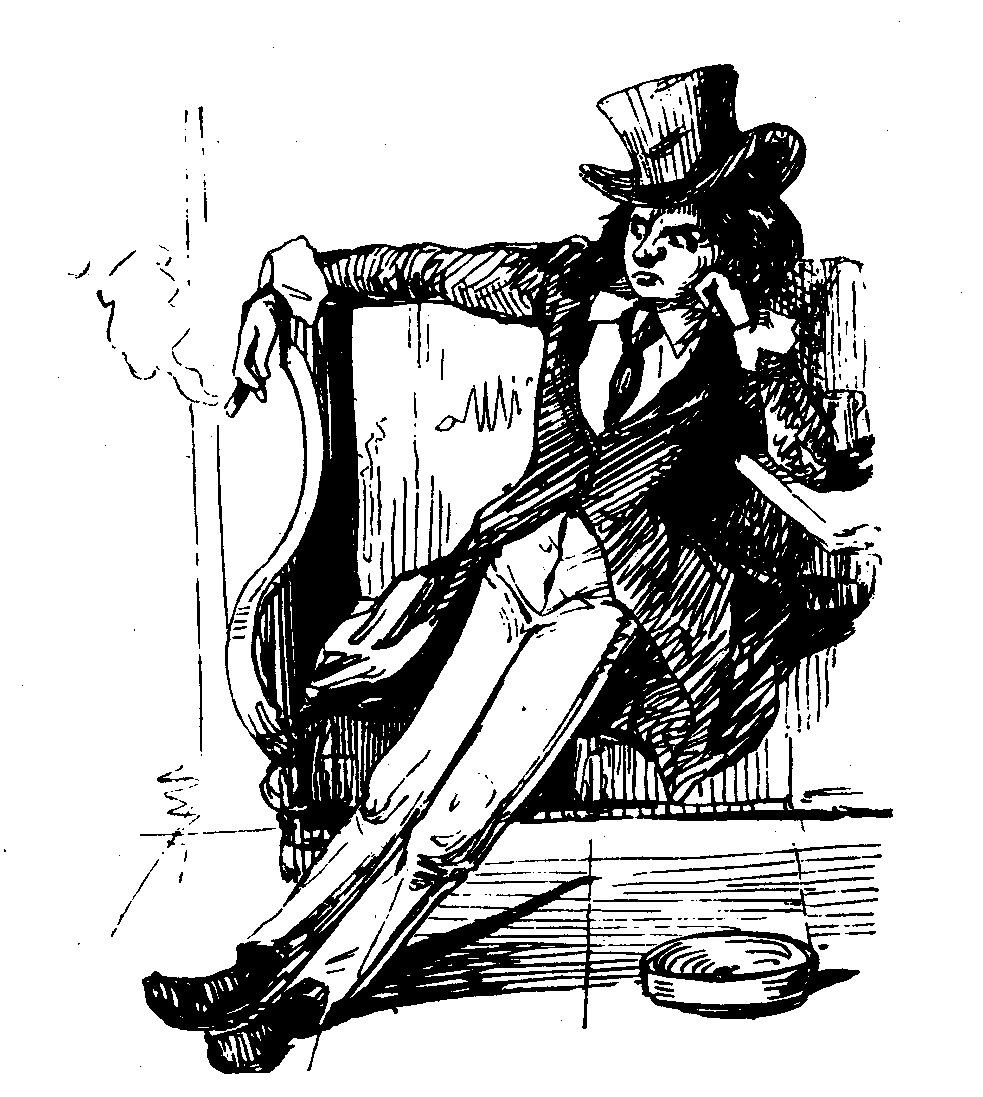 Заметьте, по иронии судьбы, среди обсуждавшихся возможностей не было
профессии литератора, но кто ее считал, да и сейчас считает достойной
джентльмена? Никто. И если нас почитают нижайшими из низких, нам некого
винить, кроме самих себя. Сделали мы хоть что-нибудь, чтобы повысить свой
престиж в глазах общества? Ровным счетом ничего. У нас нет даже корпорации с
уставом, правилами, отличиями и прочими цеховыми знаками, которыми ограждает
себя любая почтенная профессия. Небо свидетель, и я, и Диккенс старались
изменить это печальное положение, но безуспешно. Мы остаемся сборищем хапуг,
чуть ли не торгашей, и никакая уважающая себя мать не станет гордиться тем,
что ее сын - литератор. Сам я не придаю этому значения, о нет, нисколько, но
с удивлением замечаю, как сильно меня трогает печальная участь моих
собратьев по перу. В 1831 году я ничего не знал и знать не хотел о
литераторах. Я забавлялся нанизыванием стихотворных строк и очень ценил
чужие сочинения, но мне и в голову не приходило, что этим можно зарабатывать
на жизнь, и, согласитесь, это было хорошо, ибо займись я тогда литературным
заработком, я неминуемо бы потерпел крушение. Да и могла ли моя мать
одобрить такой выбор? Чему бы я учился? Ей хотелось, чтоб я нашел себе
занятие ей понятное, укладывавшееся в четко очерченные рамки, чтобы она
могла сказать своим друзьям, что я сейчас на первом, на втором или на
последнем курсе такого-то заведения и тому подобное. Если бы я сказал:
"Мама, я хочу написать книгу", что она могла ответить, кроме как: "Пиши,
сынок, но прежде научись чему-нибудь полезному"? И знаете, то был бы
неплохой совет, я сам бы дал его сегодня. Писательство - профессия
небезопасная, и браться за нее нужно, имея твердую почву под ногами. На мой
взгляд, в ней слишком многое зависит от удачи, а не от достоинств автора:
издательские расходы, распространение тиража, критические отзывы - любое из
этих неподвластных вам обстоятельств способно уничтожить книгу, как бы она
ни была хороша сама по себе. Словом, литература - занятие не для юнцов, и
мне повезло, что в ту пору она меня не соблазняла.
Как вы догадываетесь, правда заключалась в том, что меня ничто не
соблазняло, я жил, запрятавшись в уютный Веймар, вдали от тревог большого
мира. Угрюмо перебирая варианты, после пятиминутного обдумывания я отвергал
каждый. Медицина, пожалуй, была хуже всего - мысль мять, тыкать, кромсать
живое тело была мне невыносима, я не слишком высоко ценю эту профессию.
Скорей напротив, доктора всегда казались мне глупцами, которые сначала
говорят одно, затем другое, и всякий раз не знают сами, к чему ведут речь.
Матушка их никогда не жаловала и правильно делала, хотя по мне ее
гомеопатические средства немногим лучше. Я, со своей стороны, последние
двадцать лет не покидаю цепких докторских объятий, и хотя за эти годы мне
встречались и хорошие врачи, и хорошие люди, они не повлияли на мои
первоначальные воззрения. Возможно, впоследствии, когда медицина станет
точной наукой, я буду судить о ней иначе, но пока не вижу для этого резонов.
Меня влекло другое древнее занятие - военное искусство, профессия
британского солдата. Это, конечно, не оригинально, половина мальчиков
мечтает стать солдатами, и все же какая привлекательная карьера -
мужественная, сулящая и честь, и славу, и хвалу, и продвижение по службе, и
всенародное признание тем, кто выказывает доблесть, на что мы все, конечно,
уповаем. Военная жизнь всегда меня манила, и многие кампании я знал до
тонкостей. Наверное, солдатское житье пришлось бы мне по вкусу: мне хорошо
среди себе подобных, я легко схожусь с товарищами. Боясь опасности, матушка,
возможно, возражала бы поначалу, но вскоре бы смирилась. Оставалось одно
неодолимое препятствие; в Европе в это время нигде не сражались, а быть
солдатом и не воевать - это не по мне, это как-то несерьезно.
Заметьте, по иронии судьбы, среди обсуждавшихся возможностей не было
профессии литератора, но кто ее считал, да и сейчас считает достойной
джентльмена? Никто. И если нас почитают нижайшими из низких, нам некого
винить, кроме самих себя. Сделали мы хоть что-нибудь, чтобы повысить свой
престиж в глазах общества? Ровным счетом ничего. У нас нет даже корпорации с
уставом, правилами, отличиями и прочими цеховыми знаками, которыми ограждает
себя любая почтенная профессия. Небо свидетель, и я, и Диккенс старались
изменить это печальное положение, но безуспешно. Мы остаемся сборищем хапуг,
чуть ли не торгашей, и никакая уважающая себя мать не станет гордиться тем,
что ее сын - литератор. Сам я не придаю этому значения, о нет, нисколько, но
с удивлением замечаю, как сильно меня трогает печальная участь моих
собратьев по перу. В 1831 году я ничего не знал и знать не хотел о
литераторах. Я забавлялся нанизыванием стихотворных строк и очень ценил
чужие сочинения, но мне и в голову не приходило, что этим можно зарабатывать
на жизнь, и, согласитесь, это было хорошо, ибо займись я тогда литературным
заработком, я неминуемо бы потерпел крушение. Да и могла ли моя мать
одобрить такой выбор? Чему бы я учился? Ей хотелось, чтоб я нашел себе
занятие ей понятное, укладывавшееся в четко очерченные рамки, чтобы она
могла сказать своим друзьям, что я сейчас на первом, на втором или на
последнем курсе такого-то заведения и тому подобное. Если бы я сказал:
"Мама, я хочу написать книгу", что она могла ответить, кроме как: "Пиши,
сынок, но прежде научись чему-нибудь полезному"? И знаете, то был бы
неплохой совет, я сам бы дал его сегодня. Писательство - профессия
небезопасная, и браться за нее нужно, имея твердую почву под ногами. На мой
взгляд, в ней слишком многое зависит от удачи, а не от достоинств автора:
издательские расходы, распространение тиража, критические отзывы - любое из
этих неподвластных вам обстоятельств способно уничтожить книгу, как бы она
ни была хороша сама по себе. Словом, литература - занятие не для юнцов, и
мне повезло, что в ту пору она меня не соблазняла.
Как вы догадываетесь, правда заключалась в том, что меня ничто не
соблазняло, я жил, запрятавшись в уютный Веймар, вдали от тревог большого
мира. Угрюмо перебирая варианты, после пятиминутного обдумывания я отвергал
каждый. Медицина, пожалуй, была хуже всего - мысль мять, тыкать, кромсать
живое тело была мне невыносима, я не слишком высоко ценю эту профессию.
Скорей напротив, доктора всегда казались мне глупцами, которые сначала
говорят одно, затем другое, и всякий раз не знают сами, к чему ведут речь.
Матушка их никогда не жаловала и правильно делала, хотя по мне ее
гомеопатические средства немногим лучше. Я, со своей стороны, последние
двадцать лет не покидаю цепких докторских объятий, и хотя за эти годы мне
встречались и хорошие врачи, и хорошие люди, они не повлияли на мои
первоначальные воззрения. Возможно, впоследствии, когда медицина станет
точной наукой, я буду судить о ней иначе, но пока не вижу для этого резонов.
Меня влекло другое древнее занятие - военное искусство, профессия
британского солдата. Это, конечно, не оригинально, половина мальчиков
мечтает стать солдатами, и все же какая привлекательная карьера -
мужественная, сулящая и честь, и славу, и хвалу, и продвижение по службе, и
всенародное признание тем, кто выказывает доблесть, на что мы все, конечно,
уповаем. Военная жизнь всегда меня манила, и многие кампании я знал до
тонкостей. Наверное, солдатское житье пришлось бы мне по вкусу: мне хорошо
среди себе подобных, я легко схожусь с товарищами. Боясь опасности, матушка,
возможно, возражала бы поначалу, но вскоре бы смирилась. Оставалось одно
неодолимое препятствие; в Европе в это время нигде не сражались, а быть
солдатом и не воевать - это не по мне, это как-то несерьезно.
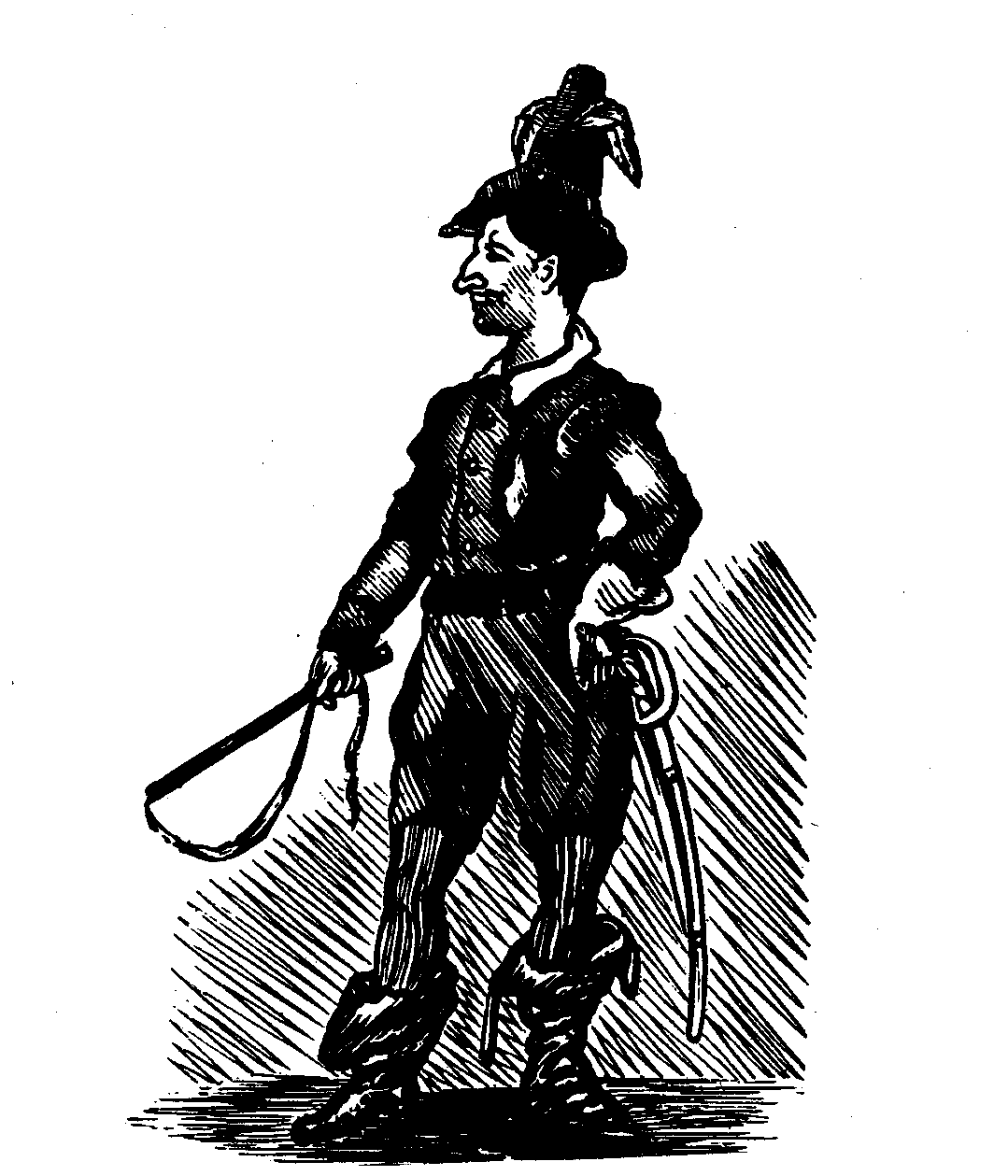 Что же оставалось, коль скоро я отверг науку, медицину и военную
службу? Ответ напрашивался сам собой в виде страшного, внушавшего мне трепет
слова - право. От него у меня бегали по спине мурашки, но как же оно
нравилось матушке! Оно прекрасно отвечало всем ее желаниям: благодаря праву
я стал бы респектабельным, известным, даже влиятельным и вызывал бы
восхищение. Вряд ли еще какая-нибудь профессия так тешит материнское сердце.
В недалеком будущем она уже видела меня лордом-канцлером, творящим суд над
всем и каждым. Робко выговорив слово "право", я сам подивился своей
глупости, ибо она, конечно, ухватилась за него и уже не отступалась. Посети
меня какая-нибудь лучшая идея, я бы не замедлил ее высказать и охладить ее
пыл, но хоть я мысленно метался как безумный и судорожно перебирал
возможности, ничто не приходило мне на ум. Духовное звание? Нет, это было бы
еще хуже, я знал, вернее, чувствовал, что наши взгляды на религию мало
совпадают, и ей бы захотелось, чтобы я понимал свои обязанности так же, как
она, - а я бы понимал их по-другому. Кроме того, хотя верования мои были
искренни, я знал, что не подхожу по темпераменту, - правда, это не всегда
считается препятствием: я видел немало молодых людей, не менее
легкомысленных, чем я, успешно сделавших духовную карьеру, - но меня это
соображение останавливало. Сюда примешивалось еще одно важное для меня
обстоятельство: для человека с талантами и деньгами - а именно так я о себе
и думал - духовный сан был неприемлем, ибо считался хорошим средством к
достижению успеха для тех, у кого не было иного выхода, и мне не хотелось
прослыть одним из этих неудачников лишь оттого, что я не ощущал в себе
высокого призвания. Я знаю, такое не говорится вслух, это звучит неприятно,
но каждый светский человек меня поймет.
В общем, мне ничего не оставалось, кроме как обучаться праву: дать,
себя засадить в адвокатскую контору и постигать унылейшее в мире ремесло
-как надувать все остальное человечество. Итак, я с самого начала смотрел на
право без почтения: судейские всегда казались мне ханжами. Еще в Веймаре я
заглянул в несколько томов гражданского права и просто взвыл от ужаса, то
было явно не по мне, но что я мог придумать? Я был не так богат, чтоб ничего
не делать, - хоть, видит бог, стократ богаче, чем в ближайшем будущем, - и
чтоб не возвращаться в Кембридж, должен был выбрать что-нибудь
основательное. Я пробовал утешить себя мыслью, что в Лондоне все будет
внове, а я люблю новизну и смогу участвовать в блестящей светской жизни
-такой она тогда мне представлялась. Правда, мне приходило в голову, что в
Веймаре, при некоторой умеренности в тратах, я мог бы безбедно жить на свои
доходы и избежать ужасной участи служить в Англии, но стоило мне только
заикнуться об этом, как матушка обрушила на меня поток возражений и
заклеймила эту мысль как недостойную, поэтому пришлось ее оставить. Мне
надлежало возвратиться в Англию и приступить к серьезной жизни. Этого было
не миновать. Я со стыдом напоминал себе, что в мои годы отец служил уже пять
лет, что близится мое совершеннолетие, а на моем счету нет никаких успехов.
Летом 1831 года с тяжелым сердцем я распростился со своей блаженной жизнью в
Веймаре и отправился в Англию, чтобы заняться правом. Итак, жребий брошен,
думал я, и назад возврата нет.
^T4^U
^TМеня определяют в адвокаты, но я спасаюсь бегством^U
В 1832 году я вел дневник, хотя не знаю, почему для этого я выбрал
именно тот год, а не какой-нибудь другой. Должно быть, считал, что
лондонская жизнь окажется примечательной и мне захочется запечатлеть
сиятельные имена тех, кто будет потчевать меня в своих домах; впрочем,
скорее всего, дневник казался достойным и солидным занятием в преддверии
близившегося совершеннолетия. Но лучше бы мне его не вести, ибо с тех давних
страниц встает убогая картина, которая не делает мне чести. В последующие
годы я много раз (и столь же беспорядочно) вел дневники, но ни один из них
не нагоняет на меня такую тоску, как этот унылый перечень дней праздности и
мотовства. Вряд ли отыщется там запись, которой я бы мог гордиться, если,
конечно, не считать заслугой само умение сказать себе неприятную правду -
чистосердечно признаться, что я попусту транжирю время,
Мне не хочется взбираться на котурны, но все же согласитесь, что
трезвая самооценка - редкость для молодых. В этом дневнике я не жалуюсь, не
ною, лишь неустанно корю себя за дурные привычки и нередко предаюсь
отчаянию. Пожалуй, меня радует, что я не забывал, что хорошо, что плохо, и
понимал, что по любым стандартам не оправдал надежд. Самодовольство
относится к тем редким недостаткам, которыми я не грешу. Нет, меня
переполняла злость, ужасная злость на себя, на свою никчемность, на жалкие
увеселения, в которых проходило время и от которых меня мутило все сильнее.
Никогда, ни до, ни после не знал я такого чувства горечи, как в те три года
в Лондоне, когда изображал из себя адвоката. Наверное, вам неприятно, что я
утверждаю это так решительно, как будто счастье, горе или воспоминания о них
могут быть столь определенны, но, честное слово, я не ошибаюсь, и дневник
подтверждает мои слова. Благодарение богу, это кончилось, и, проглядывая его
сегодня, я могут утешаться мыслью, что все осталось позади.
Полагаю, читатели, внимательно следившие за этой моей хроникой,
догадываются, что со мной происходило. Я принадлежал к числу тех, кто
ощущает потребность в работе, даже когда со стороны кажется, будто этому
малому хочется лишь прохлаждаться. Бездельничая, я не бываю счастлив, хотя
это и выглядит иначе. Целыми днями я слонялся и с виду наслаждался жизнью,
но на поверку то было не так. И в Кембридже, и после я видел немало молодых
людей, стремившихся лишь к одному - продлить беспечное, пустое, беззаботное
существование, но я был не из их числа. Я жаждал дела более основательного,
чем вся та чепуха, которая заполняла мои дни. Главное же, я не выносил
обмана, хотя сплошь и рядом прибегал к нему. Думал ли я когда-нибудь стать
адвокатом? Нисколько, не более, чем математиком. То был маневр, чтобы
успокоить матушку и выиграть время, пока я не найду что-нибудь более
подходящее. Тем, кто строит будущее на столь шатком основании, могу сказать
по собственному опыту, что они за это дорого заплатят. Судите сами, часто ли
в жизни все образуется само собой и волею небес мы избавляемся от
двойственного положения? Да такого почти никогда не бывает! И если мы
решаемся идти по пути, который нам заранее внушает отвращение, добра ждать
не приходится; мне не следовало соглашаться на право, не нужно было
хвататься за соломинку, лишь бы избегнуть Кембриджа, не нужно было лгать
себе, будто в том нет ничего предосудительного. Я пошел наперекор своей
натуре и уготовил себе чистилище.
Что же оставалось, коль скоро я отверг науку, медицину и военную
службу? Ответ напрашивался сам собой в виде страшного, внушавшего мне трепет
слова - право. От него у меня бегали по спине мурашки, но как же оно
нравилось матушке! Оно прекрасно отвечало всем ее желаниям: благодаря праву
я стал бы респектабельным, известным, даже влиятельным и вызывал бы
восхищение. Вряд ли еще какая-нибудь профессия так тешит материнское сердце.
В недалеком будущем она уже видела меня лордом-канцлером, творящим суд над
всем и каждым. Робко выговорив слово "право", я сам подивился своей
глупости, ибо она, конечно, ухватилась за него и уже не отступалась. Посети
меня какая-нибудь лучшая идея, я бы не замедлил ее высказать и охладить ее
пыл, но хоть я мысленно метался как безумный и судорожно перебирал
возможности, ничто не приходило мне на ум. Духовное звание? Нет, это было бы
еще хуже, я знал, вернее, чувствовал, что наши взгляды на религию мало
совпадают, и ей бы захотелось, чтобы я понимал свои обязанности так же, как
она, - а я бы понимал их по-другому. Кроме того, хотя верования мои были
искренни, я знал, что не подхожу по темпераменту, - правда, это не всегда
считается препятствием: я видел немало молодых людей, не менее
легкомысленных, чем я, успешно сделавших духовную карьеру, - но меня это
соображение останавливало. Сюда примешивалось еще одно важное для меня
обстоятельство: для человека с талантами и деньгами - а именно так я о себе
и думал - духовный сан был неприемлем, ибо считался хорошим средством к
достижению успеха для тех, у кого не было иного выхода, и мне не хотелось
прослыть одним из этих неудачников лишь оттого, что я не ощущал в себе
высокого призвания. Я знаю, такое не говорится вслух, это звучит неприятно,
но каждый светский человек меня поймет.
В общем, мне ничего не оставалось, кроме как обучаться праву: дать,
себя засадить в адвокатскую контору и постигать унылейшее в мире ремесло
-как надувать все остальное человечество. Итак, я с самого начала смотрел на
право без почтения: судейские всегда казались мне ханжами. Еще в Веймаре я
заглянул в несколько томов гражданского права и просто взвыл от ужаса, то
было явно не по мне, но что я мог придумать? Я был не так богат, чтоб ничего
не делать, - хоть, видит бог, стократ богаче, чем в ближайшем будущем, - и
чтоб не возвращаться в Кембридж, должен был выбрать что-нибудь
основательное. Я пробовал утешить себя мыслью, что в Лондоне все будет
внове, а я люблю новизну и смогу участвовать в блестящей светской жизни
-такой она тогда мне представлялась. Правда, мне приходило в голову, что в
Веймаре, при некоторой умеренности в тратах, я мог бы безбедно жить на свои
доходы и избежать ужасной участи служить в Англии, но стоило мне только
заикнуться об этом, как матушка обрушила на меня поток возражений и
заклеймила эту мысль как недостойную, поэтому пришлось ее оставить. Мне
надлежало возвратиться в Англию и приступить к серьезной жизни. Этого было
не миновать. Я со стыдом напоминал себе, что в мои годы отец служил уже пять
лет, что близится мое совершеннолетие, а на моем счету нет никаких успехов.
Летом 1831 года с тяжелым сердцем я распростился со своей блаженной жизнью в
Веймаре и отправился в Англию, чтобы заняться правом. Итак, жребий брошен,
думал я, и назад возврата нет.
^T4^U
^TМеня определяют в адвокаты, но я спасаюсь бегством^U
В 1832 году я вел дневник, хотя не знаю, почему для этого я выбрал
именно тот год, а не какой-нибудь другой. Должно быть, считал, что
лондонская жизнь окажется примечательной и мне захочется запечатлеть
сиятельные имена тех, кто будет потчевать меня в своих домах; впрочем,
скорее всего, дневник казался достойным и солидным занятием в преддверии
близившегося совершеннолетия. Но лучше бы мне его не вести, ибо с тех давних
страниц встает убогая картина, которая не делает мне чести. В последующие
годы я много раз (и столь же беспорядочно) вел дневники, но ни один из них
не нагоняет на меня такую тоску, как этот унылый перечень дней праздности и
мотовства. Вряд ли отыщется там запись, которой я бы мог гордиться, если,
конечно, не считать заслугой само умение сказать себе неприятную правду -
чистосердечно признаться, что я попусту транжирю время,
Мне не хочется взбираться на котурны, но все же согласитесь, что
трезвая самооценка - редкость для молодых. В этом дневнике я не жалуюсь, не
ною, лишь неустанно корю себя за дурные привычки и нередко предаюсь
отчаянию. Пожалуй, меня радует, что я не забывал, что хорошо, что плохо, и
понимал, что по любым стандартам не оправдал надежд. Самодовольство
относится к тем редким недостаткам, которыми я не грешу. Нет, меня
переполняла злость, ужасная злость на себя, на свою никчемность, на жалкие
увеселения, в которых проходило время и от которых меня мутило все сильнее.
Никогда, ни до, ни после не знал я такого чувства горечи, как в те три года
в Лондоне, когда изображал из себя адвоката. Наверное, вам неприятно, что я
утверждаю это так решительно, как будто счастье, горе или воспоминания о них
могут быть столь определенны, но, честное слово, я не ошибаюсь, и дневник
подтверждает мои слова. Благодарение богу, это кончилось, и, проглядывая его
сегодня, я могут утешаться мыслью, что все осталось позади.
Полагаю, читатели, внимательно следившие за этой моей хроникой,
догадываются, что со мной происходило. Я принадлежал к числу тех, кто
ощущает потребность в работе, даже когда со стороны кажется, будто этому
малому хочется лишь прохлаждаться. Бездельничая, я не бываю счастлив, хотя
это и выглядит иначе. Целыми днями я слонялся и с виду наслаждался жизнью,
но на поверку то было не так. И в Кембридже, и после я видел немало молодых
людей, стремившихся лишь к одному - продлить беспечное, пустое, беззаботное
существование, но я был не из их числа. Я жаждал дела более основательного,
чем вся та чепуха, которая заполняла мои дни. Главное же, я не выносил
обмана, хотя сплошь и рядом прибегал к нему. Думал ли я когда-нибудь стать
адвокатом? Нисколько, не более, чем математиком. То был маневр, чтобы
успокоить матушку и выиграть время, пока я не найду что-нибудь более
подходящее. Тем, кто строит будущее на столь шатком основании, могу сказать
по собственному опыту, что они за это дорого заплатят. Судите сами, часто ли
в жизни все образуется само собой и волею небес мы избавляемся от
двойственного положения? Да такого почти никогда не бывает! И если мы
решаемся идти по пути, который нам заранее внушает отвращение, добра ждать
не приходится; мне не следовало соглашаться на право, не нужно было
хвататься за соломинку, лишь бы избегнуть Кембриджа, не нужно было лгать
себе, будто в том нет ничего предосудительного. Я пошел наперекор своей
натуре и уготовил себе чистилище.
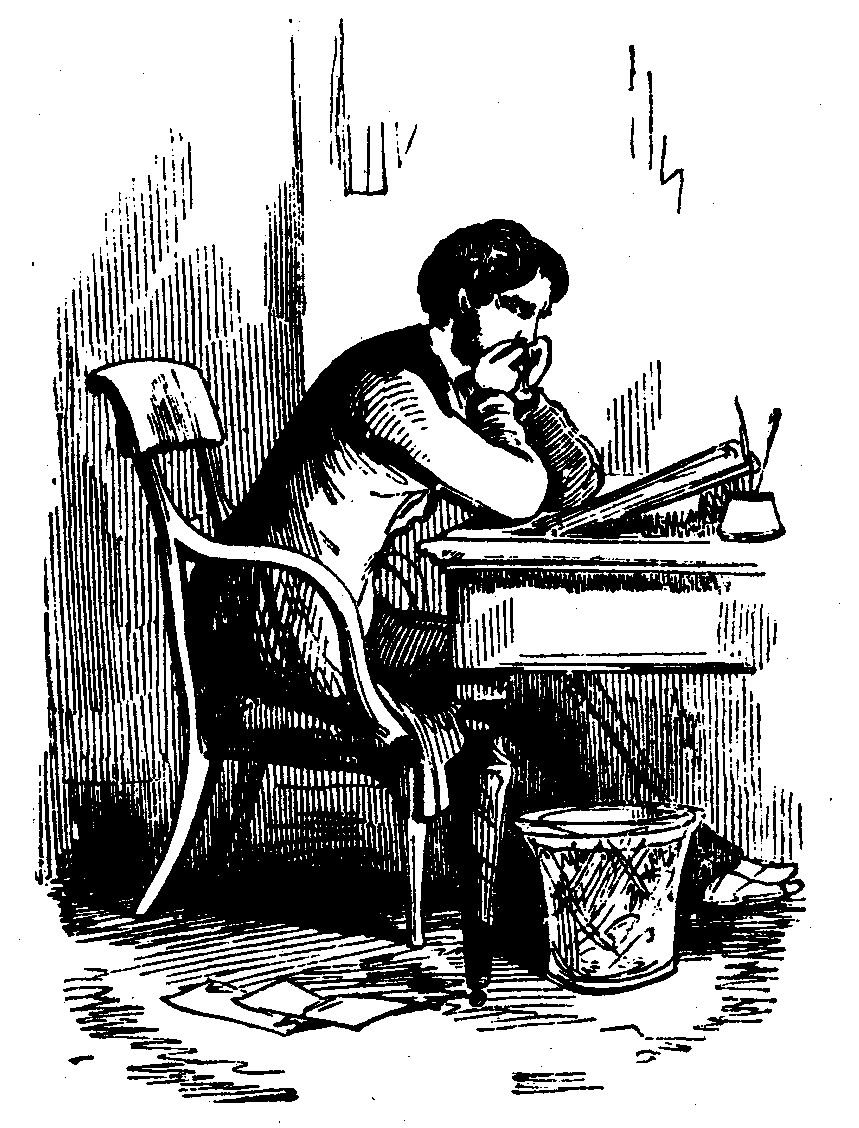 Ну что вы, не нужно преувеличивать, слышу я в ответ, не так уж тяжела
жизнь молодого преуспевающего адвоката. Неужто она в самом деле казалась вам
такой ужасной и так претила вам? Не сами ли вы себя настраиваете и
прибегаете к излишне сильным выражениям? Нет, не прибегаю. Я ненавидел это
поприще. И на работе, и в часы досуга я был безмерно несчастен и раздавлен
собственной никчемностью. Не знаю, сумею ли я вам передать особое ощущение
тех лет, но сам я помню его всем своим существом. Без всякого усилия я вновь
переношусь в эту комнату, в Хейр-Корт, в Миддл-Темпл, где я учился у некоего
Уильяма Тэпрелла; вот я стою за высокой адвокатской конторкой и, тупо
уставясь в какой-то юридический документ, пытаюсь вникнуть в его смысл,
зеваю до потери сознания и выискиваю первый попавшийся предлог, дабы
покинуть свой пост и улизнуть к "клиенту". Дорогу от комнат, где я жил в
Эссекс-Корте, до конторы я ежеутренне отмерял свинцовыми шагами, страшась
минуты, когда завершу ее и снова буду заперт в душном помещении, где треск
огня в камине и спертость воздуха нарушаются лишь бесконечным шорохом
листаемых страниц да легким перешептыванием адвокатов. Занятно, что подумал
клерк, унаследовавший мой стол у Тэпрелла, набитый рисунками и шаржами? Вы
улыбнетесь, какие это тяготы! Поверьте, скука - худшая из тягот, хуже
физической работы, хуже хлыста надсмотрщика, она парализует душу и тело,
хотя последнее и более выносливо. Нет ремесла бездушнее, чем ремесло юриста.
Судейский жаргон способен засушить самую страстную историю; как часто,
изучая за конторкой иск, возбужденный против какого-либо совратителя
невинной девы, я буквально через несколько строк всех этих улик, примет и
обстоятельств полностью лишался интереса к столь занимательному
происшествию. В конторе мистера Тэпрелла велось множество дел, большинство
их по самой своей природе были гораздо прозаичнее уже с самого начала, и я
заметил, что от частого употребления очень сроднился с юридическими штампами
и они просочились в мою повседневную речь. Я понял, что за три-четыре года
стану таким же осторожным, циничным и издерганным, как вся эта лицемерная,
изворотливая братия, и такое будущее ничуть меня не радовало. Что думал обо
мне мистер Тэпрелл? Догадаться нетрудно. Скорее всего, посмеивался про себя
над моими дерзкими замашками, понимая, что время и дело меня от них излечат.
Несомненно, он меня недолюбливал: в те времена у меня была несносная
привычка считать всех окружающих дураками, прошло немало времени, прежде чем
я понял, что старшие лучше моего разбираются в работе. Вряд ли я трудился
скрывать свои чувства, да и могли ли ему нравиться мои частые прогулы?
Вначале я позволял их себе в виде исключения, но мало-помалу осмелел и стал
не только регулярно появляться позже, но и не появляться вовсе и часто
отлучаться днем; с невероятной поспешностью сунув под мышку пачку бумаг, я
притворялся, будто спешу дать консультацию клиенту по делу чрезвычайной
важности. Этот маневр никого не мог обмануть - за недостатком опыта к
клиентам меня не посылали, мне надлежало отрабатывать свою науку писарским
трудом, но меня никто не останавливал. Должно быть, все считали, что в
положенное время я сам себе сломаю шею, а скорее всего, я был им
безразличен. Меня предоставляли моим хитростям, и я научился сносно коротать
время. Наверное, я проводил бы так восемь месяцев в году, вразвалку двигаясь
по жизни, - впереди расстилалась бескрайняя, однообразная равнина. Этого
оказалось довольно, чтоб привести меня сами понимаете куда.
Ну что вы, не нужно преувеличивать, слышу я в ответ, не так уж тяжела
жизнь молодого преуспевающего адвоката. Неужто она в самом деле казалась вам
такой ужасной и так претила вам? Не сами ли вы себя настраиваете и
прибегаете к излишне сильным выражениям? Нет, не прибегаю. Я ненавидел это
поприще. И на работе, и в часы досуга я был безмерно несчастен и раздавлен
собственной никчемностью. Не знаю, сумею ли я вам передать особое ощущение
тех лет, но сам я помню его всем своим существом. Без всякого усилия я вновь
переношусь в эту комнату, в Хейр-Корт, в Миддл-Темпл, где я учился у некоего
Уильяма Тэпрелла; вот я стою за высокой адвокатской конторкой и, тупо
уставясь в какой-то юридический документ, пытаюсь вникнуть в его смысл,
зеваю до потери сознания и выискиваю первый попавшийся предлог, дабы
покинуть свой пост и улизнуть к "клиенту". Дорогу от комнат, где я жил в
Эссекс-Корте, до конторы я ежеутренне отмерял свинцовыми шагами, страшась
минуты, когда завершу ее и снова буду заперт в душном помещении, где треск
огня в камине и спертость воздуха нарушаются лишь бесконечным шорохом
листаемых страниц да легким перешептыванием адвокатов. Занятно, что подумал
клерк, унаследовавший мой стол у Тэпрелла, набитый рисунками и шаржами? Вы
улыбнетесь, какие это тяготы! Поверьте, скука - худшая из тягот, хуже
физической работы, хуже хлыста надсмотрщика, она парализует душу и тело,
хотя последнее и более выносливо. Нет ремесла бездушнее, чем ремесло юриста.
Судейский жаргон способен засушить самую страстную историю; как часто,
изучая за конторкой иск, возбужденный против какого-либо совратителя
невинной девы, я буквально через несколько строк всех этих улик, примет и
обстоятельств полностью лишался интереса к столь занимательному
происшествию. В конторе мистера Тэпрелла велось множество дел, большинство
их по самой своей природе были гораздо прозаичнее уже с самого начала, и я
заметил, что от частого употребления очень сроднился с юридическими штампами
и они просочились в мою повседневную речь. Я понял, что за три-четыре года
стану таким же осторожным, циничным и издерганным, как вся эта лицемерная,
изворотливая братия, и такое будущее ничуть меня не радовало. Что думал обо
мне мистер Тэпрелл? Догадаться нетрудно. Скорее всего, посмеивался про себя
над моими дерзкими замашками, понимая, что время и дело меня от них излечат.
Несомненно, он меня недолюбливал: в те времена у меня была несносная
привычка считать всех окружающих дураками, прошло немало времени, прежде чем
я понял, что старшие лучше моего разбираются в работе. Вряд ли я трудился
скрывать свои чувства, да и могли ли ему нравиться мои частые прогулы?
Вначале я позволял их себе в виде исключения, но мало-помалу осмелел и стал
не только регулярно появляться позже, но и не появляться вовсе и часто
отлучаться днем; с невероятной поспешностью сунув под мышку пачку бумаг, я
притворялся, будто спешу дать консультацию клиенту по делу чрезвычайной
важности. Этот маневр никого не мог обмануть - за недостатком опыта к
клиентам меня не посылали, мне надлежало отрабатывать свою науку писарским
трудом, но меня никто не останавливал. Должно быть, все считали, что в
положенное время я сам себе сломаю шею, а скорее всего, я был им
безразличен. Меня предоставляли моим хитростям, и я научился сносно коротать
время. Наверное, я проводил бы так восемь месяцев в году, вразвалку двигаясь
по жизни, - впереди расстилалась бескрайняя, однообразная равнина. Этого
оказалось довольно, чтоб привести меня сами понимаете куда.
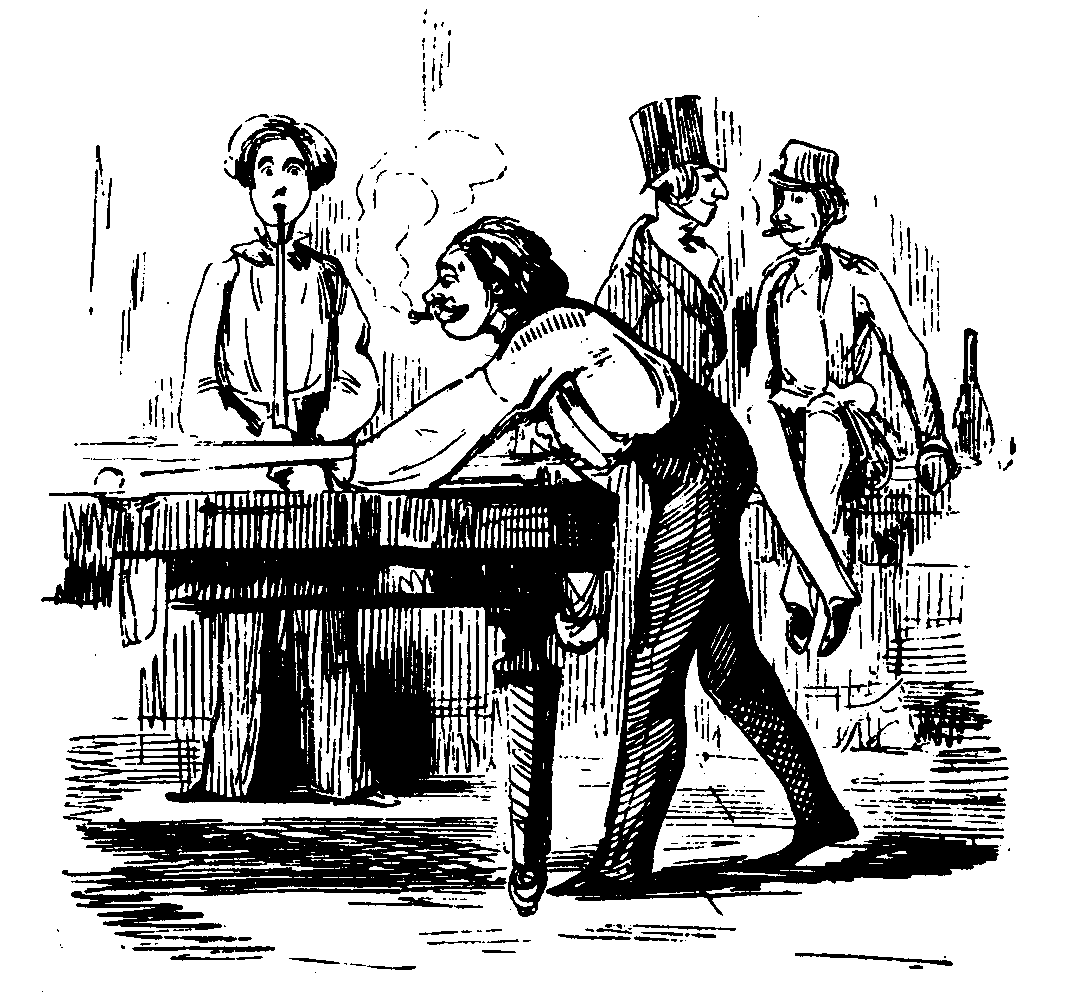 В те дни дом номер шестьдесят по Ридженс-Квадрант наиболее полно
воплощал мою идею ада. Там собирались прожженные игроки для своего
прискорбного занятия, и после отупляющего дня в конторе меня туда влекло
неудержимо. Причина вам понятна - эмоциональная встряска была для меня что
пища голодному, а что могло подействовать сильнее, чем игра? Возбуждала она
меня чудовищно, идти туда мне не хотелось, мне отвратительно было тамошнее
общество, я не испытывал ни малейшего веселья, только привычное сосущее
чувство пустоты, когда проигрывал или выигрывал. На сей раз матушка
оказалась права насчет дурной компании. Она, действительно, была дурная,
весьма дурная и состояла едва ли не из одних профессиональных игроков. Рядом
с этими регулярными визитами мои кембриджские вылазки выглядели детскими
шалостями, к тому же они уравновешивались более разумной деятельностью,
которой я не пренебрегал тогда. В Лондоне же, если я не торчал в конторе, я
вливался в толпы праздношатающихся или, по более изящному выражению того
времени, фланирующих джентльменов - легкую добычу дьявола. Я тосковал по
кембриджским друзьям, по их теплому кругу, который так легкомысленно
оставил. Порой я приезжал к ним, и их горячее радушие терзало мне сердце.
Что я наделал, что я натворил? Разве жар дружеских объятий, счастливое
волненье голосов и чувство, что я среди своих, не стоят каких угодно мук над
алгеброй? Когда меня, в свою очередь, проведывал Фицджералд, я был не в
силах отпустить его, а отпустив, терзался настоящим горем и с болью глядел
на оставшуюся после него тарелку, в какое отчаяние я приходил от каждой
встречи! Кружа по Лондону, чтоб не приближаться к дому номер шестьдесят, я
сотни раз спрашивал себя, зачем я это сделал. Что алгебра, что право, мне
было безразлично, а если говорить о людях, Кембридж был несравненно лучше
Лондона.
Сейчас, когда Лондон мне кажется самым родным городом на свете, когда я
не могу ступить и шагу по его улицам, не встретив доброго знакомого, трудно
поверить, каким бескрайним одиночеством я в нем тогда терзался. Огромный
город полон жителей, все они с самым решительным видом спешат по своим
делам, в нем очень трудно завязать знакомство. Не забывайте, у меня тут
почти никого не было, родители жили тогда в Девоншире, и я не состоял ни в
одном клубе. Дядя Фрэнк исправно и, как я сейчас понимаю, слишком часто
приглашал меня обедать, но что было делать великовозрастному, почти
совершеннолетнему молодому человеку на стариковских, чопорных обедах? Я ждал
хорошеньких надушенных записок от прекрасных дам и приглашений пожаловать на
званый вечер, но мне их не присылали, да я и не знал ни одной дамы -
жестокое лишение после Веймара. Теперь, отказываясь от приглашения
какой-нибудь очаровательной хозяйки, которая дает очередной бал или ужин, я
часто думаю, какое это расточительство, ведь сотни неприкаянных юнцов,
слоняющихся на улицах Лондона, запродали бы душу за клочок бумаги, небрежно
мной отправленный в камин. В те времена, бесцельно шатаясь вокруг театров,
кафе и клубов, я утешал себя тем, что когда-нибудь окажусь в самом центре
этой пленявшей меня жизни. Пожалуй, так оно и вышло, и долгое время она меня
очень занимала, но сейчас не трогает, и я хочу предупредить юнцов на улицах,
чтобы они не мучились понапрасну из-за того, что не приносит счастья.
Не думайте, будто я не знал иных увеселений, кроме карточной игры,
ничуть не бывало: я часто посещал театры, заглядывал с приятелями,
заменявшими мне кембриджских друзей, в недорогие ресторанчики, видел Макреди
во всех стоящих ролях, слушал Брейема, ел и пил на славу. Перелистывая
дневник, я дивлюсь заполненности тех дней, но знаю, что за этой видимой
активностью скрывается совсем иное: изо дня в день я слонялся по
Кенсингтонскому саду, уписывал печенье лежа на диване, а то и просто спал.
Живя среди большого мира, я не составлял с ним целого, жужжа вместе с
другими пчелами, я лишь летал по кругу. Сознание, что многие мои сверстники
уже выходят в люди, лишь усугубляло это ощущение: пока я ковылял неведомо в
какую сторону, они упорно строили карьеру. Знакомо ли вам это чувство,
читатель, нет, не зависти, а ужаса и изумления? Мы, неудачники, не хотим
верить, что имярек не плутовал и не имел сомнительных преимуществ, мы шумно
напираем на его удачливость, хоть знаем про себя, что вовсе не удачливость,
а упорство и усердие вывели его в люди. В молодости трудно дается
великодушное признание чужих заслуг, но кажется, я преодолел свой стыд и
зависть и отдал должное их славе.
Чарлз Буллер являл собой точно такой пример ошеломляющего трудолюбия.
Бедный Чарлз, тебе уже не узнать, какие чувства ты внушал мне! Буллер был
немногим старше меня, но уже входил в парламент и, как мы все считали,
твердо шел в гору к высочайшим почестям. Я не мог удержаться от угрюмого
сопоставления с ним, а так как мы были схожи внешне: оба с перебитыми носами
и крупные - более шести футов росту, - нас сравнивали и другие. Чарлз уже
учился в Тринити, когда я осчастливил своим появлением порталы этого
заведения, в отличие от меня он упорно занимался, стяжал награды и даже
председательствовал в студенческом союзе. Он был замечательный оратор -
можете себе представить, какие муки доставляло мне сравнение наших
достоинств, - и неотразимый человек. Его уж нет, бедного Чарлза, блестящие
надежды его юности остались несвершенными, а мы, не стоившие его мизинца,
живем, чтоб помнить и скорбеть. Я было хотел позабавить вас рассказом о том,
как однажды агитировал за Чарлза, какое то было сумасбродное, дурацкое
мероприятие и как я при этом веселился, но нет, это не имеет смысла. Не
стоит ворошить прошлое, которого не воскресить, подробностями ничего тут не
прибавишь: Чарлз Буллер и другие юноши моего возраста прекрасно учились и
достойно участвовали в жизни мира, а я был никто и ничто, и дело шло к тому,
что таковым и останусь. Все свое время я проводил в мечтах о славе и в
полном бездействии - слонялся и почитывал романы. Все, что касалось
государственных дел, проходило мимо меня, правда, однажды вечером я, помню,
отправился к Палате лордов посмотреть на их разъезд после чтения билля о
реформе, понуждая себя всерьез задуматься об опасностях, угрожающих нашей
конституции. Мало-помалу я осознал, что если в семнадцать лет был не по
годам развит, то в двадцать мой кругозор был уже, чем у многих сверстников,
и от этой мысли меня жег стыд.
Одного события я ждал с великим нетерпением, я ждал 18 июля 1832 года -
дня своего совершеннолетия. Самым нелепым образом все свои надежды я
возлагал на этот день. Утром, едва проснувшись, я лежал и воображал себе,
как распоряжусь своим огромным состоянием, - учитывая скромность суммы,
которую мне впоследствии вручили, трогательно вспоминать мои планы. Я
собирался выказать распорядительность, порядочность и благоразумие;
предвкушая удовольствие, я рисовал себе, как уплачу квартирной хозяйке, -
гм-гм! - раздам долги, после чего еще останется регулярный и неистощимый
месячный доход. Кроме того, я предприму вояж-другой, какие в этом могут быть
сомнения? Голова моя была полна видениями, которые должны были претвориться
в жизнь с рассветом того волшебного дня, когда я стану сам себе хозяин. Не
было ли тут мерзкого самодовольства? Словно все мои прегрешения, весь мой
малопочтенный образ жизни проистекали от того, что у меня не было своих
денег, как если бы одна только нехватка денег мешала мне стремиться к
благородным целям. Когда наконец наступил желанный день, знаете, что я
прежде всего сделал? Взял в банке двадцать пять фунтов и закатился пировать
в Кауз, а потом направил свои стопы во Францию, чтоб провести там долгие и
полноценные каникулы.
То был роковой шаг, но слава богу, что я совершил его, иначе я бы
доныне гнил в Миддл-Темпле. Как бы я выбрался из тамошней трясины, когда
наступило разорение? Поступок этот был недопустимым, но, хоть я того не
ведал, единственно верным - раз уж мне необходимо было осознать, чего я хочу
от жизни, я выбрал лучший способ. Бегство в Париж в час совершеннолетия было
чудесным избавлением; конечно, поздно или рано я все равно бы сбежал - хоть
официально я все еще числился у Тэпрелла, я вряд ли бы у него задержался и,
безусловно, покинул бы Хейр-Корт, последовав своим природным склонностям, -
но все же без долгих каникул, предпринятых так вовремя, без предвкушения
милой моему сердцу жизни то было бы гораздо хуже. Я дважды начинал свою
карьеру и дважды от нее отказывался, продолжать так дальше было невозможно,
тем более что прогорел Индийский банк - будто специально для того, чтобы
приблизить развязку, - и ровно через год после вступления в права наследства
я лишился своего состояния. Хотя передо мной лежит дневник, точные даты
словно затянуты дымкой, потоки разных событий сливались воедино, и их уже не
развести, поэтому я не могу точно сказать, как разделался с правом, когда
обосновался в Париже, как приняли это мои близкие и что я сам при этом
думал. Пожалуй, большую часть 1833, переломного года, когда я потерял
капитал, но обрел самого себя, - по крайней мере, так мне хочется думать, -
я провел в Париже, еще не порвав окончательно с Лондоном и правом и изо всех
сил стараясь ускорить этот процесс. Заранее планировать будущее мне не
свойственно: я склонен к долгим размышлениям и, играя мыслью о возможном
переезде, словно смакую вино, но потом - раз! - рывок и в пять минут все
кончено, решительно и бесповоротно. Это немилосердно по отношению к близким
- до них доходят лишь случайные намеки на совершающийся перелом и хаос, но в
ту пору я целиком принадлежал себе и никому не мог помешать. Как бы то ни
было, дело тогда еще не зашло так далеко, чтоб я решился громогласно заявить
о перемене места жительства и переезде в Париж со всеми своими пожитками,
все совершалось исподволь - я сновал туда-сюда и жил как придется. Узнав об
этом, матушка несколько вознегодовала, но, окрыленная моими восторгами перед
новым занятием, держалась стойко, не потому, чтоб очень его одобряла, а
потому, что как-никак это было дело, я вроде был им увлечен и, кажется,
хорошо себя проявлял. Растерянная моим отказом от уважаемых профессий, она
жаждала, чтоб я нашел себя хоть в чем-нибудь, хоть как-нибудь определился.
Не все ли матери помешаны на слове "определиться"? Оно ли не ценнее, не
желаннее всех лавров в их любящих глазах? Ей так хотелось думать, что в
двадцать один год я "полностью определился", не мечусь из стороны в сторону
и больше не внушаю ей тревоги. То же самое я заметил за собой, когда дело
коснулось моих дочек, подозрение, будто я хочу их сбыть с рук - чистейший
вздор, но все-таки меня немного беспокоит, что они "не определились". Я
подавляю это чувство, но оно меня не оставляет, было бы ложью отрицать его.
Когда речь шла обо мне - редкий случай! - я склонен был согласиться с
матушкой, ведь я и сам жаждал определиться и не тревожиться о будущем. Я сам
себе не верил и все же думал про себя, что передо мной еще откроется
блистательное будущее, и эти мысли повергали меня в трепет.
Я, кажется, раздразнил ваше любопытство и раздул из мухи слона, но
довольно, пора сказать, что это была за интересная работа. Да ничего
особенного - всего лишь журналистика. Тут вы, конечно, покачали головой и
отвели глаза в сторону, ибо если у писателей репутация неважная, у
журналистов она и вовсе никудышная, и без рекомендательного письма их не
следовало бы пускать в приличные дома. Прекрасно понимаю вашу точку зрения,
говорю как человек, сам тяжко пострадавший от этой братии, но все же
утверждаю, что хороший журналист, работающий в серьезном издании, играет в
нашем обществе важную роль, которую нелепо отрицать. Я говорю здесь не о
борзописцах с их злопыхательством, а о серьезных, блюдущих наши интересы
авторах, которые сообщают то, что нам полезно знать, касается ли это наших
парламентских деятелей, нового чуда искусства, доступного всеобщему
обозрению, или тяжелых условий труда рабочих. Новости любят все, зачем же
презирать тех, кто нам их доставляет? Я не стыдился журналистского труда
прежде и не стыжусь сейчас, по-моему, это дело нужное, не более других
подверженное злоупотреблениям и совершенно превосходное, когда им занимаются
талантливо и честно. Засим кончаю свое похвальное слово.
Достойный печатный орган", которому я предложил свои услуги (и кое-что
впридачу, но об этом позже), назывался "Нэшенел Стэндарт". То был
литературный журнал, открывшийся в начале 1833 года. Если вы помните, в ту
счастливую пору я был еще человеком со средствами и не должен был, как
впоследствии, продавать написанное ради пропитания. Я мог там помещать
серьезные обзоры и радоваться своему занятию, не заботясь о том, чтобы
попасть в тон, и о других подобных соображениях, а главное - меня не
подгоняло время, я мог писать старательно, без спешки. Таково было мое
вхождение в журналистику, и я придаю этому обстоятельству огромное значение
- начни я писать позже, когда мне пришлось работать ради денег, это,
наверное, повлекло бы за собой два очень вредных последствия. Во-первых, я
не стал бы обращаться в мелкие литературные журнальчики, лишь становившиеся
на ноги, которые платили очень скромно, а то и вовсе не платили, и, значит,
не осваивал бы ремесло в самых благоприятных условиях, как то было в
"Нэшенел Стэндарт", а норовил бы пробиться в первые ряды литературного
рынка, лез бы из кожи вон, чтоб нравиться, и неизбежно провалился бы.
Во-вторых, очень может быть, что мною никто бы не заинтересовался и моему
самолюбию был бы нанесен еще один сокрушительный удар. А так у меня был
энтузиазм и деньги, и в "Нэшенел Стэндарт" я был желанным автором, желаннее
других, более опытных, но работавших по более высоким ставкам и равнодушных
к публикации, тогда как я был рад услужить. Очарование росло так быстро, что
я в два счета стал владельцем и соиздателем журнала - очень крупной рыбой в
очень маленьком водоеме, вернее, журнале.
В те дни дом номер шестьдесят по Ридженс-Квадрант наиболее полно
воплощал мою идею ада. Там собирались прожженные игроки для своего
прискорбного занятия, и после отупляющего дня в конторе меня туда влекло
неудержимо. Причина вам понятна - эмоциональная встряска была для меня что
пища голодному, а что могло подействовать сильнее, чем игра? Возбуждала она
меня чудовищно, идти туда мне не хотелось, мне отвратительно было тамошнее
общество, я не испытывал ни малейшего веселья, только привычное сосущее
чувство пустоты, когда проигрывал или выигрывал. На сей раз матушка
оказалась права насчет дурной компании. Она, действительно, была дурная,
весьма дурная и состояла едва ли не из одних профессиональных игроков. Рядом
с этими регулярными визитами мои кембриджские вылазки выглядели детскими
шалостями, к тому же они уравновешивались более разумной деятельностью,
которой я не пренебрегал тогда. В Лондоне же, если я не торчал в конторе, я
вливался в толпы праздношатающихся или, по более изящному выражению того
времени, фланирующих джентльменов - легкую добычу дьявола. Я тосковал по
кембриджским друзьям, по их теплому кругу, который так легкомысленно
оставил. Порой я приезжал к ним, и их горячее радушие терзало мне сердце.
Что я наделал, что я натворил? Разве жар дружеских объятий, счастливое
волненье голосов и чувство, что я среди своих, не стоят каких угодно мук над
алгеброй? Когда меня, в свою очередь, проведывал Фицджералд, я был не в
силах отпустить его, а отпустив, терзался настоящим горем и с болью глядел
на оставшуюся после него тарелку, в какое отчаяние я приходил от каждой
встречи! Кружа по Лондону, чтоб не приближаться к дому номер шестьдесят, я
сотни раз спрашивал себя, зачем я это сделал. Что алгебра, что право, мне
было безразлично, а если говорить о людях, Кембридж был несравненно лучше
Лондона.
Сейчас, когда Лондон мне кажется самым родным городом на свете, когда я
не могу ступить и шагу по его улицам, не встретив доброго знакомого, трудно
поверить, каким бескрайним одиночеством я в нем тогда терзался. Огромный
город полон жителей, все они с самым решительным видом спешат по своим
делам, в нем очень трудно завязать знакомство. Не забывайте, у меня тут
почти никого не было, родители жили тогда в Девоншире, и я не состоял ни в
одном клубе. Дядя Фрэнк исправно и, как я сейчас понимаю, слишком часто
приглашал меня обедать, но что было делать великовозрастному, почти
совершеннолетнему молодому человеку на стариковских, чопорных обедах? Я ждал
хорошеньких надушенных записок от прекрасных дам и приглашений пожаловать на
званый вечер, но мне их не присылали, да я и не знал ни одной дамы -
жестокое лишение после Веймара. Теперь, отказываясь от приглашения
какой-нибудь очаровательной хозяйки, которая дает очередной бал или ужин, я
часто думаю, какое это расточительство, ведь сотни неприкаянных юнцов,
слоняющихся на улицах Лондона, запродали бы душу за клочок бумаги, небрежно
мной отправленный в камин. В те времена, бесцельно шатаясь вокруг театров,
кафе и клубов, я утешал себя тем, что когда-нибудь окажусь в самом центре
этой пленявшей меня жизни. Пожалуй, так оно и вышло, и долгое время она меня
очень занимала, но сейчас не трогает, и я хочу предупредить юнцов на улицах,
чтобы они не мучились понапрасну из-за того, что не приносит счастья.
Не думайте, будто я не знал иных увеселений, кроме карточной игры,
ничуть не бывало: я часто посещал театры, заглядывал с приятелями,
заменявшими мне кембриджских друзей, в недорогие ресторанчики, видел Макреди
во всех стоящих ролях, слушал Брейема, ел и пил на славу. Перелистывая
дневник, я дивлюсь заполненности тех дней, но знаю, что за этой видимой
активностью скрывается совсем иное: изо дня в день я слонялся по
Кенсингтонскому саду, уписывал печенье лежа на диване, а то и просто спал.
Живя среди большого мира, я не составлял с ним целого, жужжа вместе с
другими пчелами, я лишь летал по кругу. Сознание, что многие мои сверстники
уже выходят в люди, лишь усугубляло это ощущение: пока я ковылял неведомо в
какую сторону, они упорно строили карьеру. Знакомо ли вам это чувство,
читатель, нет, не зависти, а ужаса и изумления? Мы, неудачники, не хотим
верить, что имярек не плутовал и не имел сомнительных преимуществ, мы шумно
напираем на его удачливость, хоть знаем про себя, что вовсе не удачливость,
а упорство и усердие вывели его в люди. В молодости трудно дается
великодушное признание чужих заслуг, но кажется, я преодолел свой стыд и
зависть и отдал должное их славе.
Чарлз Буллер являл собой точно такой пример ошеломляющего трудолюбия.
Бедный Чарлз, тебе уже не узнать, какие чувства ты внушал мне! Буллер был
немногим старше меня, но уже входил в парламент и, как мы все считали,
твердо шел в гору к высочайшим почестям. Я не мог удержаться от угрюмого
сопоставления с ним, а так как мы были схожи внешне: оба с перебитыми носами
и крупные - более шести футов росту, - нас сравнивали и другие. Чарлз уже
учился в Тринити, когда я осчастливил своим появлением порталы этого
заведения, в отличие от меня он упорно занимался, стяжал награды и даже
председательствовал в студенческом союзе. Он был замечательный оратор -
можете себе представить, какие муки доставляло мне сравнение наших
достоинств, - и неотразимый человек. Его уж нет, бедного Чарлза, блестящие
надежды его юности остались несвершенными, а мы, не стоившие его мизинца,
живем, чтоб помнить и скорбеть. Я было хотел позабавить вас рассказом о том,
как однажды агитировал за Чарлза, какое то было сумасбродное, дурацкое
мероприятие и как я при этом веселился, но нет, это не имеет смысла. Не
стоит ворошить прошлое, которого не воскресить, подробностями ничего тут не
прибавишь: Чарлз Буллер и другие юноши моего возраста прекрасно учились и
достойно участвовали в жизни мира, а я был никто и ничто, и дело шло к тому,
что таковым и останусь. Все свое время я проводил в мечтах о славе и в
полном бездействии - слонялся и почитывал романы. Все, что касалось
государственных дел, проходило мимо меня, правда, однажды вечером я, помню,
отправился к Палате лордов посмотреть на их разъезд после чтения билля о
реформе, понуждая себя всерьез задуматься об опасностях, угрожающих нашей
конституции. Мало-помалу я осознал, что если в семнадцать лет был не по
годам развит, то в двадцать мой кругозор был уже, чем у многих сверстников,
и от этой мысли меня жег стыд.
Одного события я ждал с великим нетерпением, я ждал 18 июля 1832 года -
дня своего совершеннолетия. Самым нелепым образом все свои надежды я
возлагал на этот день. Утром, едва проснувшись, я лежал и воображал себе,
как распоряжусь своим огромным состоянием, - учитывая скромность суммы,
которую мне впоследствии вручили, трогательно вспоминать мои планы. Я
собирался выказать распорядительность, порядочность и благоразумие;
предвкушая удовольствие, я рисовал себе, как уплачу квартирной хозяйке, -
гм-гм! - раздам долги, после чего еще останется регулярный и неистощимый
месячный доход. Кроме того, я предприму вояж-другой, какие в этом могут быть
сомнения? Голова моя была полна видениями, которые должны были претвориться
в жизнь с рассветом того волшебного дня, когда я стану сам себе хозяин. Не
было ли тут мерзкого самодовольства? Словно все мои прегрешения, весь мой
малопочтенный образ жизни проистекали от того, что у меня не было своих
денег, как если бы одна только нехватка денег мешала мне стремиться к
благородным целям. Когда наконец наступил желанный день, знаете, что я
прежде всего сделал? Взял в банке двадцать пять фунтов и закатился пировать
в Кауз, а потом направил свои стопы во Францию, чтоб провести там долгие и
полноценные каникулы.
То был роковой шаг, но слава богу, что я совершил его, иначе я бы
доныне гнил в Миддл-Темпле. Как бы я выбрался из тамошней трясины, когда
наступило разорение? Поступок этот был недопустимым, но, хоть я того не
ведал, единственно верным - раз уж мне необходимо было осознать, чего я хочу
от жизни, я выбрал лучший способ. Бегство в Париж в час совершеннолетия было
чудесным избавлением; конечно, поздно или рано я все равно бы сбежал - хоть
официально я все еще числился у Тэпрелла, я вряд ли бы у него задержался и,
безусловно, покинул бы Хейр-Корт, последовав своим природным склонностям, -
но все же без долгих каникул, предпринятых так вовремя, без предвкушения
милой моему сердцу жизни то было бы гораздо хуже. Я дважды начинал свою
карьеру и дважды от нее отказывался, продолжать так дальше было невозможно,
тем более что прогорел Индийский банк - будто специально для того, чтобы
приблизить развязку, - и ровно через год после вступления в права наследства
я лишился своего состояния. Хотя передо мной лежит дневник, точные даты
словно затянуты дымкой, потоки разных событий сливались воедино, и их уже не
развести, поэтому я не могу точно сказать, как разделался с правом, когда
обосновался в Париже, как приняли это мои близкие и что я сам при этом
думал. Пожалуй, большую часть 1833, переломного года, когда я потерял
капитал, но обрел самого себя, - по крайней мере, так мне хочется думать, -
я провел в Париже, еще не порвав окончательно с Лондоном и правом и изо всех
сил стараясь ускорить этот процесс. Заранее планировать будущее мне не
свойственно: я склонен к долгим размышлениям и, играя мыслью о возможном
переезде, словно смакую вино, но потом - раз! - рывок и в пять минут все
кончено, решительно и бесповоротно. Это немилосердно по отношению к близким
- до них доходят лишь случайные намеки на совершающийся перелом и хаос, но в
ту пору я целиком принадлежал себе и никому не мог помешать. Как бы то ни
было, дело тогда еще не зашло так далеко, чтоб я решился громогласно заявить
о перемене места жительства и переезде в Париж со всеми своими пожитками,
все совершалось исподволь - я сновал туда-сюда и жил как придется. Узнав об
этом, матушка несколько вознегодовала, но, окрыленная моими восторгами перед
новым занятием, держалась стойко, не потому, чтоб очень его одобряла, а
потому, что как-никак это было дело, я вроде был им увлечен и, кажется,
хорошо себя проявлял. Растерянная моим отказом от уважаемых профессий, она
жаждала, чтоб я нашел себя хоть в чем-нибудь, хоть как-нибудь определился.
Не все ли матери помешаны на слове "определиться"? Оно ли не ценнее, не
желаннее всех лавров в их любящих глазах? Ей так хотелось думать, что в
двадцать один год я "полностью определился", не мечусь из стороны в сторону
и больше не внушаю ей тревоги. То же самое я заметил за собой, когда дело
коснулось моих дочек, подозрение, будто я хочу их сбыть с рук - чистейший
вздор, но все-таки меня немного беспокоит, что они "не определились". Я
подавляю это чувство, но оно меня не оставляет, было бы ложью отрицать его.
Когда речь шла обо мне - редкий случай! - я склонен был согласиться с
матушкой, ведь я и сам жаждал определиться и не тревожиться о будущем. Я сам
себе не верил и все же думал про себя, что передо мной еще откроется
блистательное будущее, и эти мысли повергали меня в трепет.
Я, кажется, раздразнил ваше любопытство и раздул из мухи слона, но
довольно, пора сказать, что это была за интересная работа. Да ничего
особенного - всего лишь журналистика. Тут вы, конечно, покачали головой и
отвели глаза в сторону, ибо если у писателей репутация неважная, у
журналистов она и вовсе никудышная, и без рекомендательного письма их не
следовало бы пускать в приличные дома. Прекрасно понимаю вашу точку зрения,
говорю как человек, сам тяжко пострадавший от этой братии, но все же
утверждаю, что хороший журналист, работающий в серьезном издании, играет в
нашем обществе важную роль, которую нелепо отрицать. Я говорю здесь не о
борзописцах с их злопыхательством, а о серьезных, блюдущих наши интересы
авторах, которые сообщают то, что нам полезно знать, касается ли это наших
парламентских деятелей, нового чуда искусства, доступного всеобщему
обозрению, или тяжелых условий труда рабочих. Новости любят все, зачем же
презирать тех, кто нам их доставляет? Я не стыдился журналистского труда
прежде и не стыжусь сейчас, по-моему, это дело нужное, не более других
подверженное злоупотреблениям и совершенно превосходное, когда им занимаются
талантливо и честно. Засим кончаю свое похвальное слово.
Достойный печатный орган", которому я предложил свои услуги (и кое-что
впридачу, но об этом позже), назывался "Нэшенел Стэндарт". То был
литературный журнал, открывшийся в начале 1833 года. Если вы помните, в ту
счастливую пору я был еще человеком со средствами и не должен был, как
впоследствии, продавать написанное ради пропитания. Я мог там помещать
серьезные обзоры и радоваться своему занятию, не заботясь о том, чтобы
попасть в тон, и о других подобных соображениях, а главное - меня не
подгоняло время, я мог писать старательно, без спешки. Таково было мое
вхождение в журналистику, и я придаю этому обстоятельству огромное значение
- начни я писать позже, когда мне пришлось работать ради денег, это,
наверное, повлекло бы за собой два очень вредных последствия. Во-первых, я
не стал бы обращаться в мелкие литературные журнальчики, лишь становившиеся
на ноги, которые платили очень скромно, а то и вовсе не платили, и, значит,
не осваивал бы ремесло в самых благоприятных условиях, как то было в
"Нэшенел Стэндарт", а норовил бы пробиться в первые ряды литературного
рынка, лез бы из кожи вон, чтоб нравиться, и неизбежно провалился бы.
Во-вторых, очень может быть, что мною никто бы не заинтересовался и моему
самолюбию был бы нанесен еще один сокрушительный удар. А так у меня был
энтузиазм и деньги, и в "Нэшенел Стэндарт" я был желанным автором, желаннее
других, более опытных, но работавших по более высоким ставкам и равнодушных
к публикации, тогда как я был рад услужить. Очарование росло так быстро, что
я в два счета стал владельцем и соиздателем журнала - очень крупной рыбой в
очень маленьком водоеме, вернее, журнале.
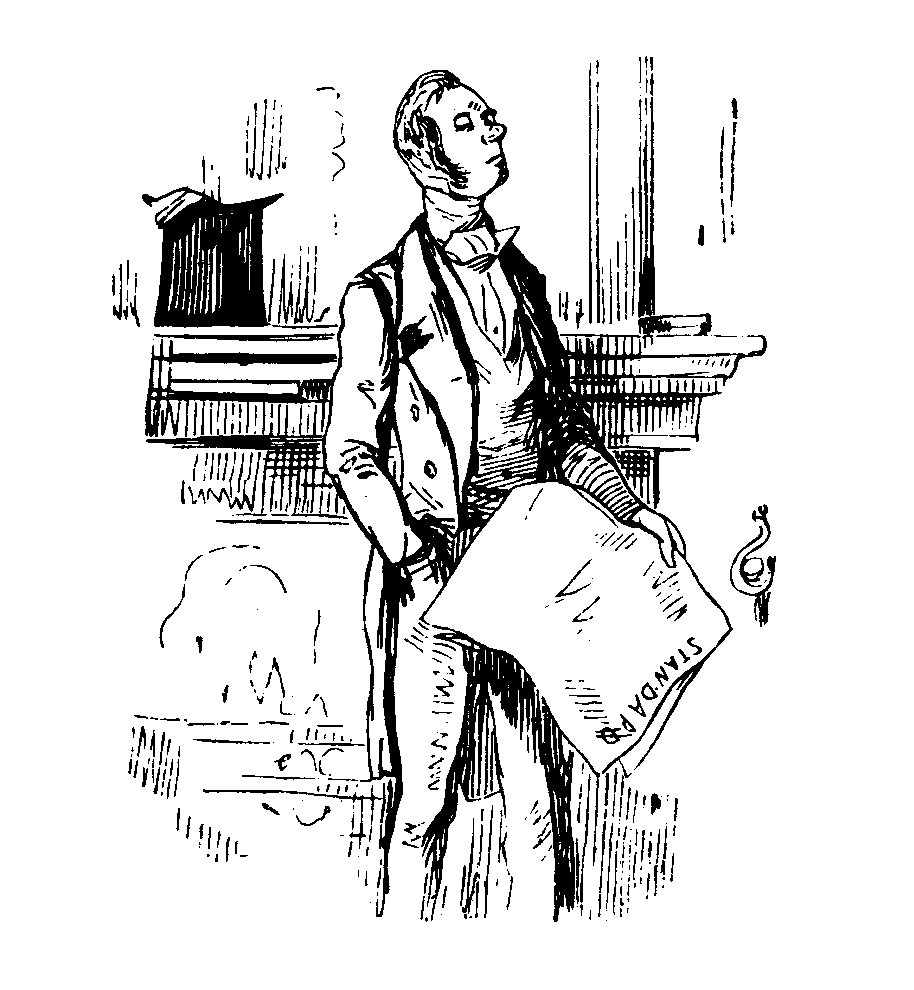 Если вы заподозрили - я ничего подобного пока не говорил, - что я купил
журнал, чтобы создать себе удобные условия, вы угадали, не отрицаю, но и не
вижу тут ничего зазорного. Я был одержим зудом издательской деятельности, а
есть ли лучший способ испытать свои силы? Газеты и журналы всегда меня
интересовали, я знал и скупал их все и с давних пор тешил себя мыслью, что
буду участвовать в издательском деле или в типографском производстве,
которое привлекало меня ничуть не меньше. Вас это удивляет? Значит, вам
неизвестно, как занимательно выпускать газету. Она сама собой не попадает в
ваш почтовый ящик, буквы не проступают сами на страницах, бумагу кто-то
разрезает и пакует в связки, рисунки печатают, а не наносят вручную в каждый
отдельный экземпляр, - процесс этот невероятно сложен и отлично слажен, я и
доныне удивляюсь, как он вообще совершается, да еще так быстро. Однажды в
Лондоне - я и сейчас помню, было то в среду вечером, - мой друг Уильям
Мэгинн привел меня в "Стэндарт" и посвятил в вышеописанные тайны,
воспламенив желанием немедленно применить их на практике. Сам Мэгинн владел
ими мастерски, в чем крылась немалая доля его очарования, он был гораздо
старше меня и покорил тем, что помог наладить выпуск "Фрейзерз Мэгэзин", в
который я посылал тайком статьи, с порога отвергаемые редакцией; признаюсь,
Мэгинн одно время был моим кумиром, я восторженно внимал каждому его слову и
жаждал одобрения. Он мне казался невероятно умным и остроумным, и я охотно
прощал ему приверженность к бутылке и к определенного сорта женщинам, а
заодно и прочие грехи, превращавшие его в неподходящую компанию для
простодушного молодого человека. Что могло быть естественней, если этому
самому Мэгинну я платил, чтобы он помог мне с журналом? С моей стороны было
рвение и деньги, с его - опыт, то был идеальный союз.
"Нэшенел Стандарт" удерживал меня в Лондоне, тогда как душа рвалась в
Париж. Я чувствовал, что если бы измыслил способ жить в Париже и выпускать
журнал в Лондоне, был бы совершенно счастлив, и убедил себя, что выдвинуться
в первые ряды моему изданию поможет парижский корреспондент, на каковую
должность я предложил самого себя и благосклонно принял вышеозначенную
кандидатуру. "Нэшенел Стэндарт" выходил каждое субботнее утро под надзором
Томаса Херста, проживающего в доме э 65 на Сент-Полз Черч-ярд, а также
своего парижского корреспондента, либо без непосредственного участия этого
последнего, но неизменно с его многочисленными материалами. Я был уверен,
что очень скоро мы заткнем за пояс "Фрейзерз", будем наперебой отказывать
маститым авторам, искать большее помещение и тому подобное. Тогда
выпускалось много журналов, как, впрочем, и сейчас, но отчего им всем не
процветать, думал я, если им хватает капитала? Капитал - то было решающее
обстоятельство. Теперь, когда у меня за плечами опыт издания крупного
журнала, я сознаю, как тщетны были мои упования. Я не понимал значения
капитала. Капитал - вот что губит молодых людей, его у них обычно нет, и
важности его они не понимают, им кажется, что можно возместить его трудом,
усердием и вкусом, но возместить его нельзя ничем. Если вы затеваете
печатный орган, запаситесь средствами, чтоб продержаться хотя бы полгода, не
рассчитывая выручить ни пенни, да-да, ни единого пенни. Вы мне не верите,
вам страшно? Тогда не затевайте дела. Какую бы цену за номер вы ни
назначили, расходы будут огромны. Если вы хотите, чтоб журнал стоил дешево,
необходима массовость, которой поначалу не добьешься, а если и добьешься,
полагаться на нее нельзя, поэтому приходится растягивать капитал, чтобы, не
повышая цены на номер, платить наборщику, покупать бумагу и выдавать
жалованье штату.
Ничего этого я не знал, хоть, должен признаться, Мэгинн и другие
пытались просветить меня, но дело казалось мне заманчивым, и трудности
ничего не меняли, но только до тех пор, пока во время краха Индийского банка
они не обрели дар речи, стремительной и страшной. Я понимал, что вся моя
жизнь поставлена на карту, и это было невыносимо: не успел я обрести милое
моему сердцу, приличное, возможно, даже выгодное дело, как снова был
низвергнут в пустоту. Мог ли "Нэшенел Стэндарт" выстоять благодаря своим
достоинствам да еще и содержать парижского корреспондента? Нет, это было
невозможно. Что ж собирался предпринять сей почтенный джентльмен? Важнее
всего ему было остаться в Париже, только это его и занимало - я полагал, что
жребий брошен, брошен вновь. Я решил не уезжать из Парижа, расшибиться в
лепешку, но выдержать. Я стану скромным студентом-живописцем, поселюсь среди
людей, равнодушных к бедности, оставлю на время журналистику. Я пробовал
взглянуть на мрачную тучу со стороны ее серебряной изнанки и радоваться
приобщению к искусству. Ведь я всегда хотел учиться живописи, не правда ли?
Теперь крах другого начинания и навалившееся безденежье вернули меня к этой
мечте, возможно, оно и к лучшему. Конечно, я не формулировал себе всего так
ясно, но помню, что не был чересчур подавлен или сломлен и неожиданную
перемену перенес довольно бодро.
Когда внезапно рушится привычный образ жизни, вам требуется время, чтоб
выработать новый, особенно если у вас нет склонности к рутине. Из тех ли вы,
кто подымается в семь тридцать, съедает завтрак в восемь, уходит на работу в
девять, в час удаляется на ленч, в пять отправляется домой, в шесть обедает,
а в половине двенадцатого укладывается в постель, и так - изо дня в день с
завидным постоянством? Вам очень неуютно, если вы не садитесь каждое утро на
привычное место в омнибусе или за тот же самый столик в ресторане, в котором
вы едите свой отличный ленч? В таком случае вы заблаговременно договорились,
где проведете следующий отпуск, за полгода вперед заказали билеты на
рождественскую пантомиму и своих детей еще в грудном возрасте записали в
школу. Я знаю, что на свете миллионы людей такого склада, и не могу не
верить в их существование лишь оттого, что мне такой режим не по нутру. Не
сомневаюсь, что в жизни по часам есть свои достоинства, что это полезно и
мудро, но я б ее не вынес. Единственное, с чем я сумел себя связать, - это с
домом, в который я ежевечерне возвращаюсь, да и то, если оказываюсь
неподалеку. Я ненавижу монотонность и очень ценю разнообразие, даже когда
оно приносит усталость и изнеможение. Не знаю, характер ли привел меня к
рассеянному образу жизни, в том числе и семейной, обстоятельства ли внесли в
мой быт горячку, но я усвоил ее поступь. Тогда, в 1834 году, в Париже я не
без ужаса заметил, что в мою жизнь вползает однообразие, и тотчас
взбунтовался. Прежний лихорадочный темп, когда я сновал туда-сюда и хватался
за все интересные дела сразу, постепенно сменился размеренным существованием
- я жил вместе с бабушкой - и регулярными посещениями мастерской, куда я
являлся с аккуратностью клерка.
Сказать по правде, мы с бабушкой всегда были несовместимы, и было
заранее ясно, что с моей стороны чистейшее безумие соглашаться на жизнь под
одной крышей, но первое, что я усвоил после разорения: нищие не выбирают. Я
не был нищим в буквальном смысле слова, но денег у меня было очень мало, а у
бабушки очень много, и только помешанный отказался бы от такого выгодного
предложения. Однако, как и все выгодные предложения, оно себя не оправдало.
Совместная жизнь с родственниками никогда себя не оправдывает, безразлично,
гость вы или хозяин. Я жил с бабушкой и ненавидел свою зависимость, жил с
родителями и умирал от скуки, жил с тещей и чуть было не наложил на себя
руки, жил с кузиной и доходил до ярости. По-моему, лучше спать под
железнодорожным мостом, чем утопать в роскоши в доме у родственников.
Наверное, тут дело в том, что мера обязательной вежливости вступает в
вопиющее противоречие с мерой допускаемой фамильярности. Вконец рассориться
с родственниками, с которыми вы до конца дней связаны нерасторжимыми узами
крови, невозможно, даже если вы сгоряча сказали им все то, что обычно вслух
не говорится, - они все равно приедут к вам снова, и это очень утомительно.
Позврослев, я стал держаться жестче с немилой моему сердцу родней, но в
юности я полагал, что нужно ее терпеть. Моя бабушка, мать моей матери,
вывела бы из себя и святого. Родив мою матушку, она вторично вышла замуж и
впоследствии вернулась из Калькутты богатой вдовой, горевшей родственными
чувствами. Фамилия ее была Батлер, Хэрриет Батлер, и вряд ли вам случалось
видеть существо более взбалмошное; правда, когда я повзрослел и мне уже не
нужно было жить с ней вместе, я очень привязался к старой даме. Но даже в
Париже, предоставленный всецело ее власти, я не мог не дивиться ее твердой
решимости всегда и во всем поступать по-своему, чего бы это ей ни стоило.
Жить вместе с Хэрриет Батлер означало плясать под ее дудку и все тут.
Тирания ее распространялась не только на то, когда и что вам есть, на какой
стул сесть, открыть или закрыть окно, но главное и самое небезопасное - на
вашу душу. Бабушка считала, что, предоставляя мне кров и стол, приобретает
право знать все, что я делаю и даже думаю. Я бы охотно делился с ней своими
мыслями, если бы она не требовала, чтобы они в точности повторяли ее
собственные. Всякий раз мы спорили из-за совершенных пустяков; из уважения к
ее возрасту и положению я старался сдерживаться, и ей поэтому казалось, что
она выигрывает в каждом раунде. Вначале мы поселились на улице Луи-ле-Гран,
можете себе вообразить, как мы развлекали окружающих: бабушку нимало не
заботило, слышат ли ее посторонние, напротив, аудитория лишь прибавляла ей
задору, но сковывала и смущала ее бедного внука. Я корчился под ударами ее
словесного бича и сжимался от публичного выражения гнева. Не думайте, что я
мирился со своим унизительным положением из-за денег, ничего подобного, -
просто за ревом бури я различал тепло и доброту, которых она почему-то не
умела высказать, и вряд ли я тут ошибался. В конечном счете, она была
хорошая женщина, но не спускала дуракам, которых вокруг нее водилось
множество, и по ошибке приняла меня за одного из них.
Если вы заподозрили - я ничего подобного пока не говорил, - что я купил
журнал, чтобы создать себе удобные условия, вы угадали, не отрицаю, но и не
вижу тут ничего зазорного. Я был одержим зудом издательской деятельности, а
есть ли лучший способ испытать свои силы? Газеты и журналы всегда меня
интересовали, я знал и скупал их все и с давних пор тешил себя мыслью, что
буду участвовать в издательском деле или в типографском производстве,
которое привлекало меня ничуть не меньше. Вас это удивляет? Значит, вам
неизвестно, как занимательно выпускать газету. Она сама собой не попадает в
ваш почтовый ящик, буквы не проступают сами на страницах, бумагу кто-то
разрезает и пакует в связки, рисунки печатают, а не наносят вручную в каждый
отдельный экземпляр, - процесс этот невероятно сложен и отлично слажен, я и
доныне удивляюсь, как он вообще совершается, да еще так быстро. Однажды в
Лондоне - я и сейчас помню, было то в среду вечером, - мой друг Уильям
Мэгинн привел меня в "Стэндарт" и посвятил в вышеописанные тайны,
воспламенив желанием немедленно применить их на практике. Сам Мэгинн владел
ими мастерски, в чем крылась немалая доля его очарования, он был гораздо
старше меня и покорил тем, что помог наладить выпуск "Фрейзерз Мэгэзин", в
который я посылал тайком статьи, с порога отвергаемые редакцией; признаюсь,
Мэгинн одно время был моим кумиром, я восторженно внимал каждому его слову и
жаждал одобрения. Он мне казался невероятно умным и остроумным, и я охотно
прощал ему приверженность к бутылке и к определенного сорта женщинам, а
заодно и прочие грехи, превращавшие его в неподходящую компанию для
простодушного молодого человека. Что могло быть естественней, если этому
самому Мэгинну я платил, чтобы он помог мне с журналом? С моей стороны было
рвение и деньги, с его - опыт, то был идеальный союз.
"Нэшенел Стандарт" удерживал меня в Лондоне, тогда как душа рвалась в
Париж. Я чувствовал, что если бы измыслил способ жить в Париже и выпускать
журнал в Лондоне, был бы совершенно счастлив, и убедил себя, что выдвинуться
в первые ряды моему изданию поможет парижский корреспондент, на каковую
должность я предложил самого себя и благосклонно принял вышеозначенную
кандидатуру. "Нэшенел Стэндарт" выходил каждое субботнее утро под надзором
Томаса Херста, проживающего в доме э 65 на Сент-Полз Черч-ярд, а также
своего парижского корреспондента, либо без непосредственного участия этого
последнего, но неизменно с его многочисленными материалами. Я был уверен,
что очень скоро мы заткнем за пояс "Фрейзерз", будем наперебой отказывать
маститым авторам, искать большее помещение и тому подобное. Тогда
выпускалось много журналов, как, впрочем, и сейчас, но отчего им всем не
процветать, думал я, если им хватает капитала? Капитал - то было решающее
обстоятельство. Теперь, когда у меня за плечами опыт издания крупного
журнала, я сознаю, как тщетны были мои упования. Я не понимал значения
капитала. Капитал - вот что губит молодых людей, его у них обычно нет, и
важности его они не понимают, им кажется, что можно возместить его трудом,
усердием и вкусом, но возместить его нельзя ничем. Если вы затеваете
печатный орган, запаситесь средствами, чтоб продержаться хотя бы полгода, не
рассчитывая выручить ни пенни, да-да, ни единого пенни. Вы мне не верите,
вам страшно? Тогда не затевайте дела. Какую бы цену за номер вы ни
назначили, расходы будут огромны. Если вы хотите, чтоб журнал стоил дешево,
необходима массовость, которой поначалу не добьешься, а если и добьешься,
полагаться на нее нельзя, поэтому приходится растягивать капитал, чтобы, не
повышая цены на номер, платить наборщику, покупать бумагу и выдавать
жалованье штату.
Ничего этого я не знал, хоть, должен признаться, Мэгинн и другие
пытались просветить меня, но дело казалось мне заманчивым, и трудности
ничего не меняли, но только до тех пор, пока во время краха Индийского банка
они не обрели дар речи, стремительной и страшной. Я понимал, что вся моя
жизнь поставлена на карту, и это было невыносимо: не успел я обрести милое
моему сердцу, приличное, возможно, даже выгодное дело, как снова был
низвергнут в пустоту. Мог ли "Нэшенел Стэндарт" выстоять благодаря своим
достоинствам да еще и содержать парижского корреспондента? Нет, это было
невозможно. Что ж собирался предпринять сей почтенный джентльмен? Важнее
всего ему было остаться в Париже, только это его и занимало - я полагал, что
жребий брошен, брошен вновь. Я решил не уезжать из Парижа, расшибиться в
лепешку, но выдержать. Я стану скромным студентом-живописцем, поселюсь среди
людей, равнодушных к бедности, оставлю на время журналистику. Я пробовал
взглянуть на мрачную тучу со стороны ее серебряной изнанки и радоваться
приобщению к искусству. Ведь я всегда хотел учиться живописи, не правда ли?
Теперь крах другого начинания и навалившееся безденежье вернули меня к этой
мечте, возможно, оно и к лучшему. Конечно, я не формулировал себе всего так
ясно, но помню, что не был чересчур подавлен или сломлен и неожиданную
перемену перенес довольно бодро.
Когда внезапно рушится привычный образ жизни, вам требуется время, чтоб
выработать новый, особенно если у вас нет склонности к рутине. Из тех ли вы,
кто подымается в семь тридцать, съедает завтрак в восемь, уходит на работу в
девять, в час удаляется на ленч, в пять отправляется домой, в шесть обедает,
а в половине двенадцатого укладывается в постель, и так - изо дня в день с
завидным постоянством? Вам очень неуютно, если вы не садитесь каждое утро на
привычное место в омнибусе или за тот же самый столик в ресторане, в котором
вы едите свой отличный ленч? В таком случае вы заблаговременно договорились,
где проведете следующий отпуск, за полгода вперед заказали билеты на
рождественскую пантомиму и своих детей еще в грудном возрасте записали в
школу. Я знаю, что на свете миллионы людей такого склада, и не могу не
верить в их существование лишь оттого, что мне такой режим не по нутру. Не
сомневаюсь, что в жизни по часам есть свои достоинства, что это полезно и
мудро, но я б ее не вынес. Единственное, с чем я сумел себя связать, - это с
домом, в который я ежевечерне возвращаюсь, да и то, если оказываюсь
неподалеку. Я ненавижу монотонность и очень ценю разнообразие, даже когда
оно приносит усталость и изнеможение. Не знаю, характер ли привел меня к
рассеянному образу жизни, в том числе и семейной, обстоятельства ли внесли в
мой быт горячку, но я усвоил ее поступь. Тогда, в 1834 году, в Париже я не
без ужаса заметил, что в мою жизнь вползает однообразие, и тотчас
взбунтовался. Прежний лихорадочный темп, когда я сновал туда-сюда и хватался
за все интересные дела сразу, постепенно сменился размеренным существованием
- я жил вместе с бабушкой - и регулярными посещениями мастерской, куда я
являлся с аккуратностью клерка.
Сказать по правде, мы с бабушкой всегда были несовместимы, и было
заранее ясно, что с моей стороны чистейшее безумие соглашаться на жизнь под
одной крышей, но первое, что я усвоил после разорения: нищие не выбирают. Я
не был нищим в буквальном смысле слова, но денег у меня было очень мало, а у
бабушки очень много, и только помешанный отказался бы от такого выгодного
предложения. Однако, как и все выгодные предложения, оно себя не оправдало.
Совместная жизнь с родственниками никогда себя не оправдывает, безразлично,
гость вы или хозяин. Я жил с бабушкой и ненавидел свою зависимость, жил с
родителями и умирал от скуки, жил с тещей и чуть было не наложил на себя
руки, жил с кузиной и доходил до ярости. По-моему, лучше спать под
железнодорожным мостом, чем утопать в роскоши в доме у родственников.
Наверное, тут дело в том, что мера обязательной вежливости вступает в
вопиющее противоречие с мерой допускаемой фамильярности. Вконец рассориться
с родственниками, с которыми вы до конца дней связаны нерасторжимыми узами
крови, невозможно, даже если вы сгоряча сказали им все то, что обычно вслух
не говорится, - они все равно приедут к вам снова, и это очень утомительно.
Позврослев, я стал держаться жестче с немилой моему сердцу родней, но в
юности я полагал, что нужно ее терпеть. Моя бабушка, мать моей матери,
вывела бы из себя и святого. Родив мою матушку, она вторично вышла замуж и
впоследствии вернулась из Калькутты богатой вдовой, горевшей родственными
чувствами. Фамилия ее была Батлер, Хэрриет Батлер, и вряд ли вам случалось
видеть существо более взбалмошное; правда, когда я повзрослел и мне уже не
нужно было жить с ней вместе, я очень привязался к старой даме. Но даже в
Париже, предоставленный всецело ее власти, я не мог не дивиться ее твердой
решимости всегда и во всем поступать по-своему, чего бы это ей ни стоило.
Жить вместе с Хэрриет Батлер означало плясать под ее дудку и все тут.
Тирания ее распространялась не только на то, когда и что вам есть, на какой
стул сесть, открыть или закрыть окно, но главное и самое небезопасное - на
вашу душу. Бабушка считала, что, предоставляя мне кров и стол, приобретает
право знать все, что я делаю и даже думаю. Я бы охотно делился с ней своими
мыслями, если бы она не требовала, чтобы они в точности повторяли ее
собственные. Всякий раз мы спорили из-за совершенных пустяков; из уважения к
ее возрасту и положению я старался сдерживаться, и ей поэтому казалось, что
она выигрывает в каждом раунде. Вначале мы поселились на улице Луи-ле-Гран,
можете себе вообразить, как мы развлекали окружающих: бабушку нимало не
заботило, слышат ли ее посторонние, напротив, аудитория лишь прибавляла ей
задору, но сковывала и смущала ее бедного внука. Я корчился под ударами ее
словесного бича и сжимался от публичного выражения гнева. Не думайте, что я
мирился со своим унизительным положением из-за денег, ничего подобного, -
просто за ревом бури я различал тепло и доброту, которых она почему-то не
умела высказать, и вряд ли я тут ошибался. В конечном счете, она была
хорошая женщина, но не спускала дуракам, которых вокруг нее водилось
множество, и по ошибке приняла меня за одного из них.
 Позже, когда мы перебрились в уютные меблированные комнаты на улице
Прованс, я начал держаться с ней тверже и старался почаще пропускать
трапезы. Славный старый "Нэшенел Стэндарт" к тому времени испустил дух, и я
окончательно стал учеником живописной мастерской - точно так, как и задумал
в ту пору, когда передо мной еще оставался выбор. Но постепенно я совсем его
лишился, и это стало жизненным диктатом: чтоб тратить свои жалкие гроши на
личные потребности, мне ничего не оставалось, кроме как жить с бабушкой и
терпеть ее, и если я хотел прямо смотреть людям в глаза и показать, на что
способен, мне следовало в течение трех лет учиться живописи - так я и делал.
Как бы то ни было, я жил в Париже, а не в Лондоне, был свободен от
служебного рабства и ждал своего часа. Попав в ярмо, которое я сам себе
облюбовал, я быстро понял, что оно ничем не лучше прежних - тех, что мне
навязывали. Разница состояла лишь в том, что на этот раз у меня не было
иного выхода. Мне надлежало преуспеть как художнику или сделаться кем-нибудь
еще, чтобы прокормиться. Мою историю вы знаете - к чему еще я был способен,
кроме как к жизни джентльмена, которая мне стала недоступна? Я прошу у вас
не сочувствия - я сознаю, что был счастливчиком и никогда не знал нужды, - а
только понимания. Я даже не хочу сказать, что разорение мне причинило вред,
возможно, то было лучшее из всего со мной случившегося, но все-таки
вообразите, что я пережил, когда на меня обрушилась внезапная перемена
судьбы. Повторяю, я мужественно перенес дурные вести, но все же был выбит из
колеи и испытывал нервное возбуждение, которое принимал за душевную
приподнятость. Вам это кажется непостижимым, но именно так оно и было. Я
очень долго не ощущал уныния из-за своих финансов. Точно то же происходит с
любой моей трагедией, каков бы ни был ее повод: я встречаю ее твердо, все
отмечают бодрость моего духа, я предстаю достойным восхищения философом, но
спустя несколько недель или месяцев, к тому времени, когда все окончательно
забывают о случившемся, я начинаю стонать и корчиться от боли и предаюсь
глубокому и запоздалому отчаянию, которое тем больше, что я держу его под
спудом, - вот тогда-то, когда труднее всего рассчитывать на утешения, я в
них острее всего нуждаюсь. Так было и с потерей состояния. А что из этого
получилось, я расскажу вам в следующей главе.
^T5^U
^TЯ теряю состояние, но обретаю жизненное поприще^U
Итак, вот он я - счастливый до головокружения от того, что учусь
живописи в Париже, и возомнивший ненадолго, будто обрел, наконец, свое
подлинное "я", но так ли это было? Долгие годы все мы жили в убеждении, что
художник из меня получился бы гениальный, но мой талант никто и никогда не
подвергал проверке и не соизмерял с талантами других. И что же, я очень
быстро понял, что дело выглядит именно так, как я того боялся: я гораздо
лучше рисовал, чем писал красками, тогда как у обычного студента все обстоит
как раз наоборот. Хоть я и не желал себе в этом признаться, но чувство цвета
у меня было неважное - точно так же я никогда не признавался, что моим
романам не хватает действия, хоть втайне сознавал это. Рисунком я владел
довольно сносно, но в живописи был невыразителен. Очень скоро моих холстов
достало бы, чтобы изжарить на них буйвола, однако успехи были
обескураживающе скромными. Часами я копировал любимые полотна в Лувре и
постепенно стал задумываться, есть ли в этом смысл: первоклассного художника
из меня все равно не получилось бы. Не верилось, что я смогу когда-нибудь
продавать плоды своих трудов и выдержу три года ученичества, но я об этом
помалкивал. Я не мог не сравнивать свое равнодушие к тому, чего достиг как
художник, с тем, как горячо интересовался скромнейшим из литературных дел, и
стал спрашивать себя - не прямо, конечно, не называя вещи своими именами, -
разумно ли идти и дальше по избранному пути? Во мне росло отвращение к
собственным художническим потугам, и после целого года непрерывных усилий я
из протеста целый месяц валялся в постели и читал романы.
Опасный признак, говорите вы, да, верно, я тоже так считал. Разве я не
впадал всегда в апатию при первом же препятствии? Разве не знал, что после
апатии, если ее не одолеть, придет угрюмое отчаяние? Кроме меня, никто и не
думал ее одолевать: парижский мэтр интересовался мной не больше, чем мой
кембриджский наставник или мистер Тэпрелл из Хейр-Корта. Если я не
справлялся с живописью, математикой или юриспруденцией, они считали, что это
не их забота, а моя, и были правы: мои ошибки и решения были моим личным
делом. Я молил бога дать моим пальцам силу справиться с тем, к чему они, как
ни старались, не были пригодны, и в то же время вновь метался в поисках
выхода из положения, в которое сам себя поставил. Раз у меня нет денег,
достойных этого названия, значит, для того, чтоб распрощаться со
студенческой жизнью, нужно либо найти работу, либо вернуться домой и сдаться
на милость моей многострадальной матушки, чего мне никак не хотелось. Я изо
всех сил добивался, чтобы меня послали в Константинополь иностранным
корреспондентом от "Морнинг Кроникл", но мои отчаянные усилия ни к чему не
привели. Одному богу известно, что я рассчитывал там делать, но мне
казалось, что само слово "Константинополь" несет с собой освобождение. Когда
все в жизни идет вкривь и вкось, что может быть соблазнительнее бегства, тем
более бегства, совершаемого с разумной целью и к тому же оплаченного? В
таком назначении мне виделась не просто работа на год, но, очень вероятно,
будущая книга с рисунками автора, эдакий "Иллюстрированный год
путешественника", из-за которого передерутся все лондонские издатели. То был
мой первый честолюбивый замысел во всей его подкупающей наивности и
откровенности, тот самый, который впоследствии стал навязчивой идеей. Вам не
забавно, что я способен был вообразить себя автором путевых очерков, но не
романистом, и что мои мечты кружились вокруг словесных и карандашных
зарисовок увиденных мной мест, а не вымышленных характеров? То было
следствие занятий живописью: при всем своем увлечении журналистикой я
связывал свое будущее с карандашом, а не со словом. И я доволен, что
впоследствии сумел не раз, а много раз осуществить эту свою первую мечту,
хоть из нее не выросли великие литературные шедевры - впрочем, неизвестно,
есть ли вообще такие среди написанных мной книг.
Жить рядом с бабушкой и предаваться внутренним борениям оказалось
немыслимо. Можно ли было целыми днями бить баклуши под ее орлиным оком? Чем
заметнее была моя растерянность, тем утомительнее становились ее выговоры,
пока, наконец, я больше уже не мог выносить разоблачений этой дамы - неужто
она не замечала, что я и сам себе не давал спуску и вовсе не гордился своей
праздностью? Я решил, что обойдусь без комфортабельных апартаментов,
переберусь в мансарду и буду жить так же, как мои товарищи. Лишь только я
упомянул о переезде, бабушка тотчас же стала меня задабривать, но я был
тверд: мансарда и независимая бедность гораздо больше отвечали моему
тогдашнему умонастроению. Она, конечно, сочла мои слова пустой угрозой и
была обижена и удивлена, когда я привел их в исполнение и перевез свои
немногочисленные пожитки на улицу Боз-Ар, где, правду сказать, неизменно
испытывал острую нехватку денег. Стоило мне нанести визит врачу, как вся моя
наличность улетучивалась и я влезал в долги до следующего дня выплаты
процентов со все еще остававшегося у меня крохотного капитала, дававшего не
более ста фунтов в год. Вырвавшись, я почувствовал себя гораздо лучше и стал
осматриваться и подыскивать себе литературный заработок или заказы на
рисунки.
Позже, когда мы перебрились в уютные меблированные комнаты на улице
Прованс, я начал держаться с ней тверже и старался почаще пропускать
трапезы. Славный старый "Нэшенел Стэндарт" к тому времени испустил дух, и я
окончательно стал учеником живописной мастерской - точно так, как и задумал
в ту пору, когда передо мной еще оставался выбор. Но постепенно я совсем его
лишился, и это стало жизненным диктатом: чтоб тратить свои жалкие гроши на
личные потребности, мне ничего не оставалось, кроме как жить с бабушкой и
терпеть ее, и если я хотел прямо смотреть людям в глаза и показать, на что
способен, мне следовало в течение трех лет учиться живописи - так я и делал.
Как бы то ни было, я жил в Париже, а не в Лондоне, был свободен от
служебного рабства и ждал своего часа. Попав в ярмо, которое я сам себе
облюбовал, я быстро понял, что оно ничем не лучше прежних - тех, что мне
навязывали. Разница состояла лишь в том, что на этот раз у меня не было
иного выхода. Мне надлежало преуспеть как художнику или сделаться кем-нибудь
еще, чтобы прокормиться. Мою историю вы знаете - к чему еще я был способен,
кроме как к жизни джентльмена, которая мне стала недоступна? Я прошу у вас
не сочувствия - я сознаю, что был счастливчиком и никогда не знал нужды, - а
только понимания. Я даже не хочу сказать, что разорение мне причинило вред,
возможно, то было лучшее из всего со мной случившегося, но все-таки
вообразите, что я пережил, когда на меня обрушилась внезапная перемена
судьбы. Повторяю, я мужественно перенес дурные вести, но все же был выбит из
колеи и испытывал нервное возбуждение, которое принимал за душевную
приподнятость. Вам это кажется непостижимым, но именно так оно и было. Я
очень долго не ощущал уныния из-за своих финансов. Точно то же происходит с
любой моей трагедией, каков бы ни был ее повод: я встречаю ее твердо, все
отмечают бодрость моего духа, я предстаю достойным восхищения философом, но
спустя несколько недель или месяцев, к тому времени, когда все окончательно
забывают о случившемся, я начинаю стонать и корчиться от боли и предаюсь
глубокому и запоздалому отчаянию, которое тем больше, что я держу его под
спудом, - вот тогда-то, когда труднее всего рассчитывать на утешения, я в
них острее всего нуждаюсь. Так было и с потерей состояния. А что из этого
получилось, я расскажу вам в следующей главе.
^T5^U
^TЯ теряю состояние, но обретаю жизненное поприще^U
Итак, вот он я - счастливый до головокружения от того, что учусь
живописи в Париже, и возомнивший ненадолго, будто обрел, наконец, свое
подлинное "я", но так ли это было? Долгие годы все мы жили в убеждении, что
художник из меня получился бы гениальный, но мой талант никто и никогда не
подвергал проверке и не соизмерял с талантами других. И что же, я очень
быстро понял, что дело выглядит именно так, как я того боялся: я гораздо
лучше рисовал, чем писал красками, тогда как у обычного студента все обстоит
как раз наоборот. Хоть я и не желал себе в этом признаться, но чувство цвета
у меня было неважное - точно так же я никогда не признавался, что моим
романам не хватает действия, хоть втайне сознавал это. Рисунком я владел
довольно сносно, но в живописи был невыразителен. Очень скоро моих холстов
достало бы, чтобы изжарить на них буйвола, однако успехи были
обескураживающе скромными. Часами я копировал любимые полотна в Лувре и
постепенно стал задумываться, есть ли в этом смысл: первоклассного художника
из меня все равно не получилось бы. Не верилось, что я смогу когда-нибудь
продавать плоды своих трудов и выдержу три года ученичества, но я об этом
помалкивал. Я не мог не сравнивать свое равнодушие к тому, чего достиг как
художник, с тем, как горячо интересовался скромнейшим из литературных дел, и
стал спрашивать себя - не прямо, конечно, не называя вещи своими именами, -
разумно ли идти и дальше по избранному пути? Во мне росло отвращение к
собственным художническим потугам, и после целого года непрерывных усилий я
из протеста целый месяц валялся в постели и читал романы.
Опасный признак, говорите вы, да, верно, я тоже так считал. Разве я не
впадал всегда в апатию при первом же препятствии? Разве не знал, что после
апатии, если ее не одолеть, придет угрюмое отчаяние? Кроме меня, никто и не
думал ее одолевать: парижский мэтр интересовался мной не больше, чем мой
кембриджский наставник или мистер Тэпрелл из Хейр-Корта. Если я не
справлялся с живописью, математикой или юриспруденцией, они считали, что это
не их забота, а моя, и были правы: мои ошибки и решения были моим личным
делом. Я молил бога дать моим пальцам силу справиться с тем, к чему они, как
ни старались, не были пригодны, и в то же время вновь метался в поисках
выхода из положения, в которое сам себя поставил. Раз у меня нет денег,
достойных этого названия, значит, для того, чтоб распрощаться со
студенческой жизнью, нужно либо найти работу, либо вернуться домой и сдаться
на милость моей многострадальной матушки, чего мне никак не хотелось. Я изо
всех сил добивался, чтобы меня послали в Константинополь иностранным
корреспондентом от "Морнинг Кроникл", но мои отчаянные усилия ни к чему не
привели. Одному богу известно, что я рассчитывал там делать, но мне
казалось, что само слово "Константинополь" несет с собой освобождение. Когда
все в жизни идет вкривь и вкось, что может быть соблазнительнее бегства, тем
более бегства, совершаемого с разумной целью и к тому же оплаченного? В
таком назначении мне виделась не просто работа на год, но, очень вероятно,
будущая книга с рисунками автора, эдакий "Иллюстрированный год
путешественника", из-за которого передерутся все лондонские издатели. То был
мой первый честолюбивый замысел во всей его подкупающей наивности и
откровенности, тот самый, который впоследствии стал навязчивой идеей. Вам не
забавно, что я способен был вообразить себя автором путевых очерков, но не
романистом, и что мои мечты кружились вокруг словесных и карандашных
зарисовок увиденных мной мест, а не вымышленных характеров? То было
следствие занятий живописью: при всем своем увлечении журналистикой я
связывал свое будущее с карандашом, а не со словом. И я доволен, что
впоследствии сумел не раз, а много раз осуществить эту свою первую мечту,
хоть из нее не выросли великие литературные шедевры - впрочем, неизвестно,
есть ли вообще такие среди написанных мной книг.
Жить рядом с бабушкой и предаваться внутренним борениям оказалось
немыслимо. Можно ли было целыми днями бить баклуши под ее орлиным оком? Чем
заметнее была моя растерянность, тем утомительнее становились ее выговоры,
пока, наконец, я больше уже не мог выносить разоблачений этой дамы - неужто
она не замечала, что я и сам себе не давал спуску и вовсе не гордился своей
праздностью? Я решил, что обойдусь без комфортабельных апартаментов,
переберусь в мансарду и буду жить так же, как мои товарищи. Лишь только я
упомянул о переезде, бабушка тотчас же стала меня задабривать, но я был
тверд: мансарда и независимая бедность гораздо больше отвечали моему
тогдашнему умонастроению. Она, конечно, сочла мои слова пустой угрозой и
была обижена и удивлена, когда я привел их в исполнение и перевез свои
немногочисленные пожитки на улицу Боз-Ар, где, правду сказать, неизменно
испытывал острую нехватку денег. Стоило мне нанести визит врачу, как вся моя
наличность улетучивалась и я влезал в долги до следующего дня выплаты
процентов со все еще остававшегося у меня крохотного капитала, дававшего не
более ста фунтов в год. Вырвавшись, я почувствовал себя гораздо лучше и стал
осматриваться и подыскивать себе литературный заработок или заказы на
рисунки.
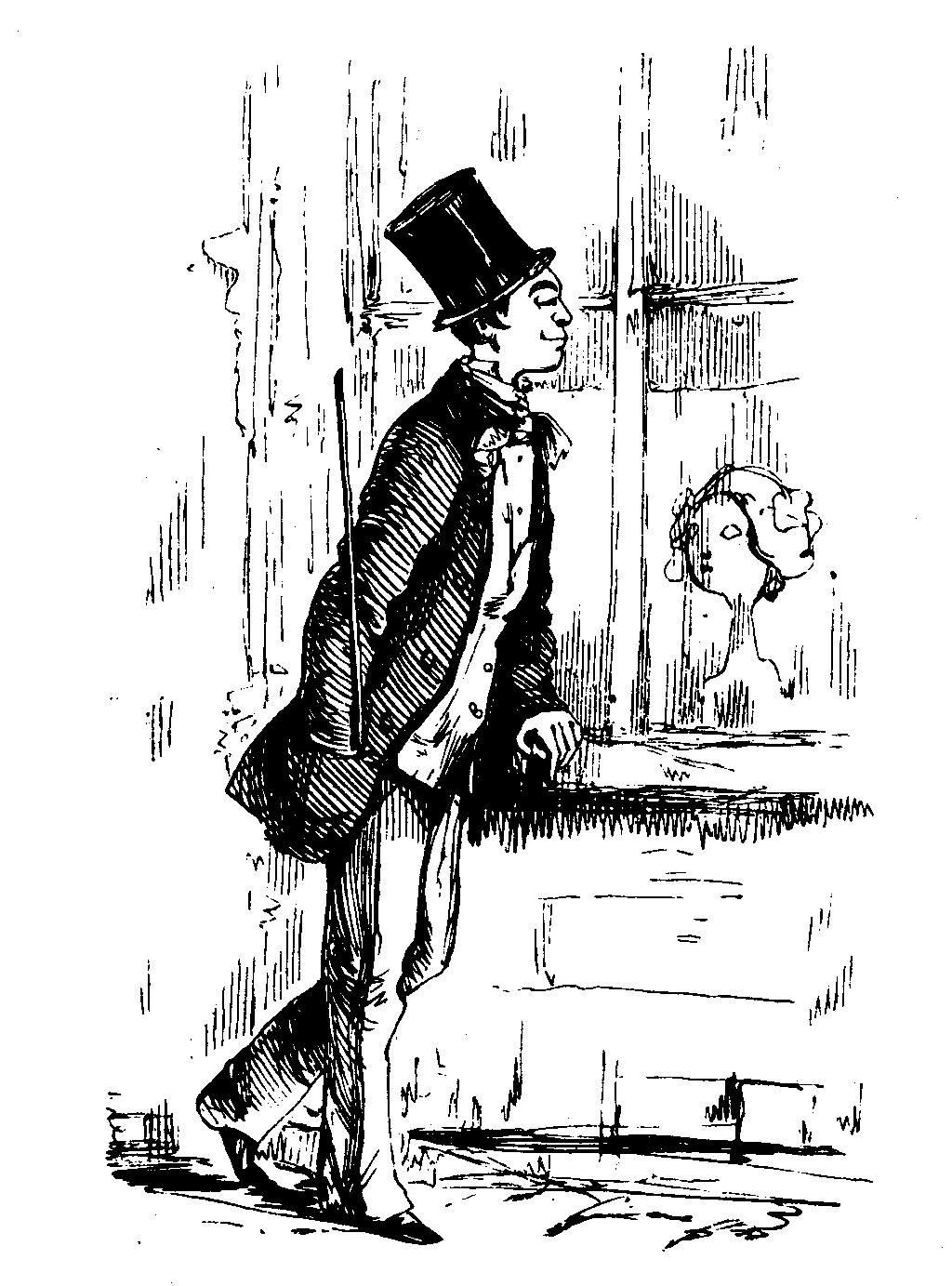 Мне повезло, что в Париже у меня было много знакомых: и французов, и
англичан - и, обронив словцо там и сям, я мог набрать немного небольших
заказов. Я переводил, печатал гравюры и тому подобное, хватало лишь свести
концы с концами, но тогда меня это не огорчало. В этом "тогда" была вся
суть. Мне стукнуло двадцать четыре года, а вам, наверное, известно, что
обычно происходит с молодыми людьми этого возраста. Они полны грандиозных
планов на счет того, чего при всем своем желании не могут себе позволить,
сюда относятся, как правило, и матримониальные намерения, требующие
чертовски больших средств. Мне было ясно, что в близком будущем мне
перестанет хватать тех жалких денег, которые я зарабатывал, и нужно
подыскать более серьезную и твердую прибавку к моему маленькому доходу.
Влюбись я и задумай жениться, бедность неодолимым препятствием встала бы на
моем, пути, разве что моя любимая оказалась бы богатой наследницей, но на
это не стоило рассчитывать. И в самом деле, девушка, которой я отдал сердце,
была почти так же бедна, как я, и с самого начала своего ухаживания я знал:
для того, чтобы дело дошло до чего-то серьезного, я должен ради нас обоих
поскорей устроиться работать, или же мне предстоит томиться весь свой век в
холостяках.
Изабеллу Шоу я встретил в Париже в конце лета 1835 года - тогда, когда
мои доходы и моя карьера были в самом плачевном состоянии, - об этом времени
я вам очень обстоятельно рассказывал. Я помню, как впервые ее встретил, но
не помню, где и когда это случилось, и вы будете избавлены от утомительных
подробностей. Сами понимаете, как и положено такому романтическому малому, я
влюбился с первого взгляда и тут же погрузился в вихрь восторга, потеряв
способность есть, пить и тому подобное - со всеми прочими симптомами
любовной лихорадки. Когда я говорю, что был в восторге от своей
влюбленности, я вовсе не хочу сказать что-то циничное или глумливое - мне
очень нравилось, что у меня нет аппетита, что я лежу, покуривая, на кровати
и предаюсь грезам наяву. Правда, я не мог дождаться, когда нас обвенчают, но
в остальном чувство мое не было мучительным, однако ждать, как вы понимаете,
было необходимо. Я был совершенно уверен, что сделал правильный выбор, и это
служило поддержкой и опорой; вспоминая прошлое, я удивляюсь своей полной
убежденности в том, что все в конце концов образуется и что Изабелла и есть
та девушка, которая предназначена мне судьбой. Естественней было бы начать с
сомнений, не правда ли? Ведь если не считать моего поклонения веймарским
красавицам, у меня не было ни знания женщин, ни романтических привязанностей
и, по справедливости, мне следовало бы пережить хотя бы два-три увлечения,
прежде чем выбирать себе подругу жизни, но нет, я начал с Изабеллы, и
никаких предметов нежной страсти до нее у меня не было. Надеюсь, мое
признание заденет нежные струны вашего сердца. Рискуя испортить всю историю,
предупрежу заранее, еще не доведя дело до женитьбы, что наше счастье
оказалось недолгим, поэтому я должен постараться выжать из нашего романа
каждую мыслимую каплю чувства. Я не могу перелистать десятки лет безоблачной
семейной жизни и указать на лучшие ее страницы, такой жизни у меня не было,
поэтому я должен обрисовать яркими красками те несколько лет, которые мы
провели вместе, чтобы извлечь на свет божий немногие из выпавших нам скудных
радостей. Больше, чем обо всем другом, жалею я о том, что не изведал
семейного счастья, долгого, полного и крепкого, я бы не променял его ни на
какие деньги, ни на какую литературную славу. Мужчине нужна жена, чтоб
возвращаться к ней по вечерам, - по крайней мере, мне она была необходима, и
всю жизнь я чувствовал, как сильно мне ее недостает.
Мне повезло, что в Париже у меня было много знакомых: и французов, и
англичан - и, обронив словцо там и сям, я мог набрать немного небольших
заказов. Я переводил, печатал гравюры и тому подобное, хватало лишь свести
концы с концами, но тогда меня это не огорчало. В этом "тогда" была вся
суть. Мне стукнуло двадцать четыре года, а вам, наверное, известно, что
обычно происходит с молодыми людьми этого возраста. Они полны грандиозных
планов на счет того, чего при всем своем желании не могут себе позволить,
сюда относятся, как правило, и матримониальные намерения, требующие
чертовски больших средств. Мне было ясно, что в близком будущем мне
перестанет хватать тех жалких денег, которые я зарабатывал, и нужно
подыскать более серьезную и твердую прибавку к моему маленькому доходу.
Влюбись я и задумай жениться, бедность неодолимым препятствием встала бы на
моем, пути, разве что моя любимая оказалась бы богатой наследницей, но на
это не стоило рассчитывать. И в самом деле, девушка, которой я отдал сердце,
была почти так же бедна, как я, и с самого начала своего ухаживания я знал:
для того, чтобы дело дошло до чего-то серьезного, я должен ради нас обоих
поскорей устроиться работать, или же мне предстоит томиться весь свой век в
холостяках.
Изабеллу Шоу я встретил в Париже в конце лета 1835 года - тогда, когда
мои доходы и моя карьера были в самом плачевном состоянии, - об этом времени
я вам очень обстоятельно рассказывал. Я помню, как впервые ее встретил, но
не помню, где и когда это случилось, и вы будете избавлены от утомительных
подробностей. Сами понимаете, как и положено такому романтическому малому, я
влюбился с первого взгляда и тут же погрузился в вихрь восторга, потеряв
способность есть, пить и тому подобное - со всеми прочими симптомами
любовной лихорадки. Когда я говорю, что был в восторге от своей
влюбленности, я вовсе не хочу сказать что-то циничное или глумливое - мне
очень нравилось, что у меня нет аппетита, что я лежу, покуривая, на кровати
и предаюсь грезам наяву. Правда, я не мог дождаться, когда нас обвенчают, но
в остальном чувство мое не было мучительным, однако ждать, как вы понимаете,
было необходимо. Я был совершенно уверен, что сделал правильный выбор, и это
служило поддержкой и опорой; вспоминая прошлое, я удивляюсь своей полной
убежденности в том, что все в конце концов образуется и что Изабелла и есть
та девушка, которая предназначена мне судьбой. Естественней было бы начать с
сомнений, не правда ли? Ведь если не считать моего поклонения веймарским
красавицам, у меня не было ни знания женщин, ни романтических привязанностей
и, по справедливости, мне следовало бы пережить хотя бы два-три увлечения,
прежде чем выбирать себе подругу жизни, но нет, я начал с Изабеллы, и
никаких предметов нежной страсти до нее у меня не было. Надеюсь, мое
признание заденет нежные струны вашего сердца. Рискуя испортить всю историю,
предупрежу заранее, еще не доведя дело до женитьбы, что наше счастье
оказалось недолгим, поэтому я должен постараться выжать из нашего романа
каждую мыслимую каплю чувства. Я не могу перелистать десятки лет безоблачной
семейной жизни и указать на лучшие ее страницы, такой жизни у меня не было,
поэтому я должен обрисовать яркими красками те несколько лет, которые мы
провели вместе, чтобы извлечь на свет божий немногие из выпавших нам скудных
радостей. Больше, чем обо всем другом, жалею я о том, что не изведал
семейного счастья, долгого, полного и крепкого, я бы не променял его ни на
какие деньги, ни на какую литературную славу. Мужчине нужна жена, чтоб
возвращаться к ней по вечерам, - по крайней мере, мне она была необходима, и
всю жизнь я чувствовал, как сильно мне ее недостает.
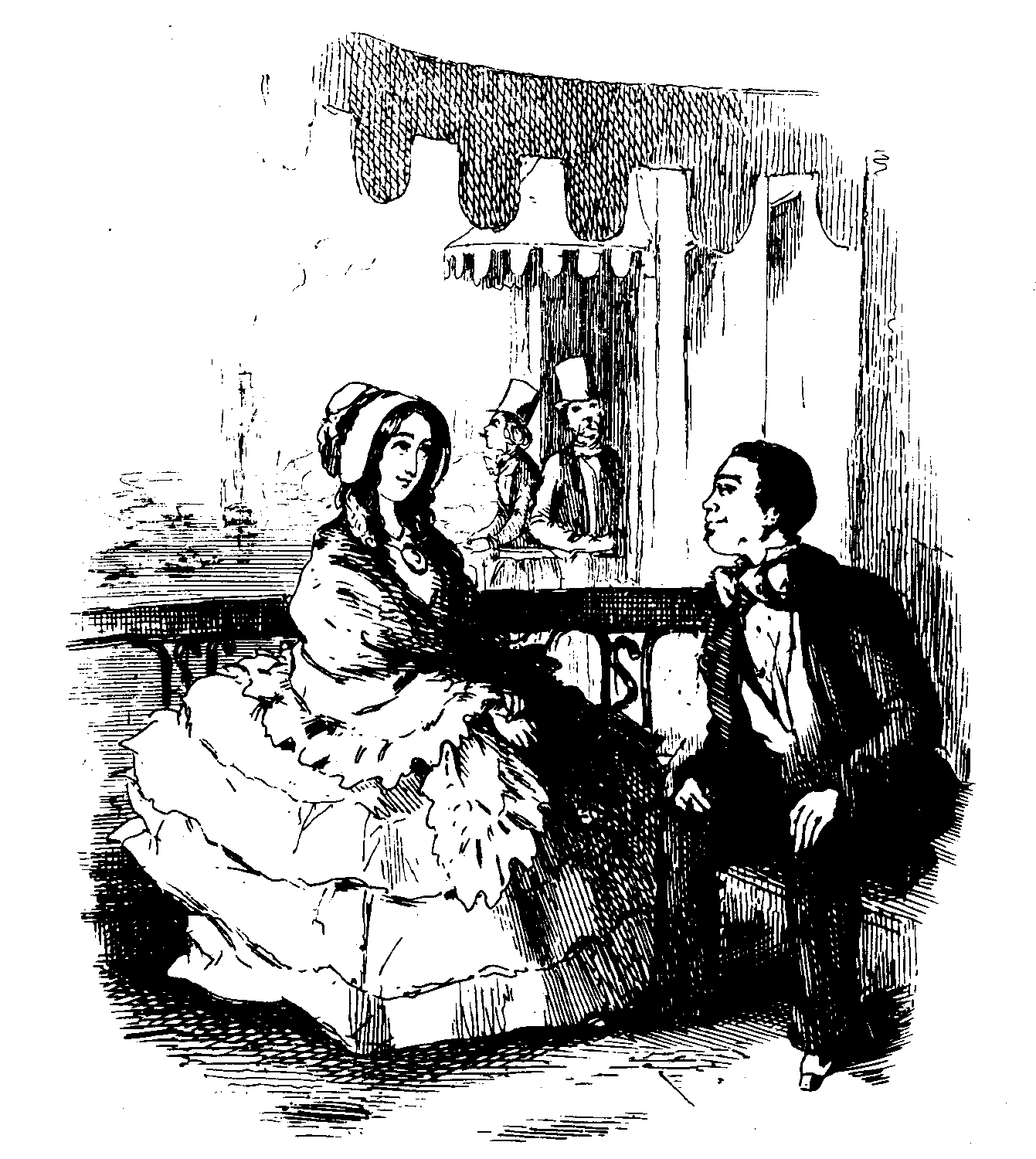 Как хорошо, что в 1835 году ни одна из этих мрачных, терзающих меня в
1862 году мыслей даже отдаленно не приходила мне в голову. Впрочем, не
говорил ли я на этих страницах ровно противоположное - не говорил ли я, что
лучше знать, что тебя ждет впереди? Но как было бы страшно провидеть будущее
в ту пору, когда я надеялся иметь десятерых детей, купить дом в городе и дом
в деревне и долгими вечерами греться у камина. Я был блаженно счастлив,
обдумывая и планируя свою женитьбу, прежде всего зависевшую от работы,
которая позволила бы мне содержать мое возросшее семейство, иначе все
откладывалось. Наверное, мой энтузиазм был устрашающе велик и, кажется, я до
смерти им напугал бедняжку Изабеллу, обрушивая на нее потоки слов и не делая
передышек, чтоб дать ей высказаться, - я полагал, что ее мнение в точности
совпадает с моим собственным. Боюсь, она была поражена моей
скоропалительностью: мы толком не успели познакомиться, а я уже решил
жениться, мы еще не поженились, а я без всякого стеснения заговорил о детях
- я торопил события, мечтал, чтоб все произошло как можно скорее, и только
недавно догадался, что моей бедной детке, возможно, хотелось более
неспешного и деликатного ухаживания. Как же я был опрометчив, когда очертя
голову ринулся в такое серьезное дело, как брак, ни разу не повременив, ни
разу не задумавшись, какой ущерб я причиняю более нежным душам. Не я ли
обратил в паническое бегство и утомил мою любимую? Не я ли помчал ее единым
духом к алтарю, вместо того чтоб, протянув ей руку, неспешно шагать рядом?
Не я ли заставил ее сердце колотиться, а голову кружиться от торопливости, с
которой сделал предложение? Да, я повинен во всем этом, но поплатился
суровее, чем заслужил.
Довольно неопределенности: я встретил Изабеллу в середине 1835 года и
женился на ней год спустя - на полгода позже, чем намеревался. Отсрочка была
вызвана отнюдь не поисками работы, которая в нужный час сама спустилась ко
мне в руки, а злобными интригами моей тещи, черт бы побрал ее душу. Это,
конечно, только шутка, как добрый христианин я никому не пожелаю вечных мук,
но все же в этом дурацком мелодраматическом восклицании кроется доля
истинного чувства. Миссис Шоу, несомненно, была скверная женщина, и никто не
знает этого лучше меня. Своих пятерых детей, особенно девочек, она
притесняла самым бессовестным образом и довела до того, что они не смели и
шагу ступить без ее соизволения. Мне следовало бы сразу распознать ее
жестокость, но я не распознал: когда я впервые посетил ее в парижском
пансионе, где она и ее дети жили на маленькую пенсию вдовы офицера индийских
колониальных войск - единственный источник дохода после смерти ее мужа, -
она мне просто показалась строгой, чопорной матроной. Парижские пансионы
кишмя кишат подобными чудовищами, которые проявляют чудеса изворотливости и
всеми мыслимыми способами восполняют свое жалкое денежное содержание, ни на
мгновенье не теряя бдительности, чтоб не упустить свой главный шанс. Когда я
впервые появился в жизни ее дочери, миссис Шоу, видимо, решила, что в ее
двери постучала удача, но вскоре, поскольку я никогда ни из чего не делал
тайны, утратила иллюзии на мой счет и пустилась во все тяжкие, чтобы не
допустить нашего союза. Прошло так много лет, что мне с моим знанием людей и
жизни следовало бы простить ее, но я не в силах это сделать. Однако мне
понятна ее забота о материальной стороне жизни: когда до меня в Америке
дошла весть о том, что одна из моих дочек питает склонность к больному,
бедному священнику, я пришел в ярость и разразился энергичнейшим посланием,
в котором запрещал этот брак. Миссис Шоу была права, когда заботилась о
благополучии дочери, и правильно бы поступила, если бы потребовала от меня
каких-либо гарантий, которые я счастлив был бы ей представить, но нет и не
может быть оправдания тому, что она настраивала против меня и терзала
попреками мою любимую за то, что та якобы бросает свою мать. Все это можно
было бы объяснить великой материнской любовью, но когда разразилась
катастрофа, эта любовь явилась в своем истинном свете, она оказалась мелким
своекорыстным чувством, карикатурой, к которой неприменимо высокое слово
"любовь".
Как хорошо, что в 1835 году ни одна из этих мрачных, терзающих меня в
1862 году мыслей даже отдаленно не приходила мне в голову. Впрочем, не
говорил ли я на этих страницах ровно противоположное - не говорил ли я, что
лучше знать, что тебя ждет впереди? Но как было бы страшно провидеть будущее
в ту пору, когда я надеялся иметь десятерых детей, купить дом в городе и дом
в деревне и долгими вечерами греться у камина. Я был блаженно счастлив,
обдумывая и планируя свою женитьбу, прежде всего зависевшую от работы,
которая позволила бы мне содержать мое возросшее семейство, иначе все
откладывалось. Наверное, мой энтузиазм был устрашающе велик и, кажется, я до
смерти им напугал бедняжку Изабеллу, обрушивая на нее потоки слов и не делая
передышек, чтоб дать ей высказаться, - я полагал, что ее мнение в точности
совпадает с моим собственным. Боюсь, она была поражена моей
скоропалительностью: мы толком не успели познакомиться, а я уже решил
жениться, мы еще не поженились, а я без всякого стеснения заговорил о детях
- я торопил события, мечтал, чтоб все произошло как можно скорее, и только
недавно догадался, что моей бедной детке, возможно, хотелось более
неспешного и деликатного ухаживания. Как же я был опрометчив, когда очертя
голову ринулся в такое серьезное дело, как брак, ни разу не повременив, ни
разу не задумавшись, какой ущерб я причиняю более нежным душам. Не я ли
обратил в паническое бегство и утомил мою любимую? Не я ли помчал ее единым
духом к алтарю, вместо того чтоб, протянув ей руку, неспешно шагать рядом?
Не я ли заставил ее сердце колотиться, а голову кружиться от торопливости, с
которой сделал предложение? Да, я повинен во всем этом, но поплатился
суровее, чем заслужил.
Довольно неопределенности: я встретил Изабеллу в середине 1835 года и
женился на ней год спустя - на полгода позже, чем намеревался. Отсрочка была
вызвана отнюдь не поисками работы, которая в нужный час сама спустилась ко
мне в руки, а злобными интригами моей тещи, черт бы побрал ее душу. Это,
конечно, только шутка, как добрый христианин я никому не пожелаю вечных мук,
но все же в этом дурацком мелодраматическом восклицании кроется доля
истинного чувства. Миссис Шоу, несомненно, была скверная женщина, и никто не
знает этого лучше меня. Своих пятерых детей, особенно девочек, она
притесняла самым бессовестным образом и довела до того, что они не смели и
шагу ступить без ее соизволения. Мне следовало бы сразу распознать ее
жестокость, но я не распознал: когда я впервые посетил ее в парижском
пансионе, где она и ее дети жили на маленькую пенсию вдовы офицера индийских
колониальных войск - единственный источник дохода после смерти ее мужа, -
она мне просто показалась строгой, чопорной матроной. Парижские пансионы
кишмя кишат подобными чудовищами, которые проявляют чудеса изворотливости и
всеми мыслимыми способами восполняют свое жалкое денежное содержание, ни на
мгновенье не теряя бдительности, чтоб не упустить свой главный шанс. Когда я
впервые появился в жизни ее дочери, миссис Шоу, видимо, решила, что в ее
двери постучала удача, но вскоре, поскольку я никогда ни из чего не делал
тайны, утратила иллюзии на мой счет и пустилась во все тяжкие, чтобы не
допустить нашего союза. Прошло так много лет, что мне с моим знанием людей и
жизни следовало бы простить ее, но я не в силах это сделать. Однако мне
понятна ее забота о материальной стороне жизни: когда до меня в Америке
дошла весть о том, что одна из моих дочек питает склонность к больному,
бедному священнику, я пришел в ярость и разразился энергичнейшим посланием,
в котором запрещал этот брак. Миссис Шоу была права, когда заботилась о
благополучии дочери, и правильно бы поступила, если бы потребовала от меня
каких-либо гарантий, которые я счастлив был бы ей представить, но нет и не
может быть оправдания тому, что она настраивала против меня и терзала
попреками мою любимую за то, что та якобы бросает свою мать. Все это можно
было бы объяснить великой материнской любовью, но когда разразилась
катастрофа, эта любовь явилась в своем истинном свете, она оказалась мелким
своекорыстным чувством, карикатурой, к которой неприменимо высокое слово
"любовь".
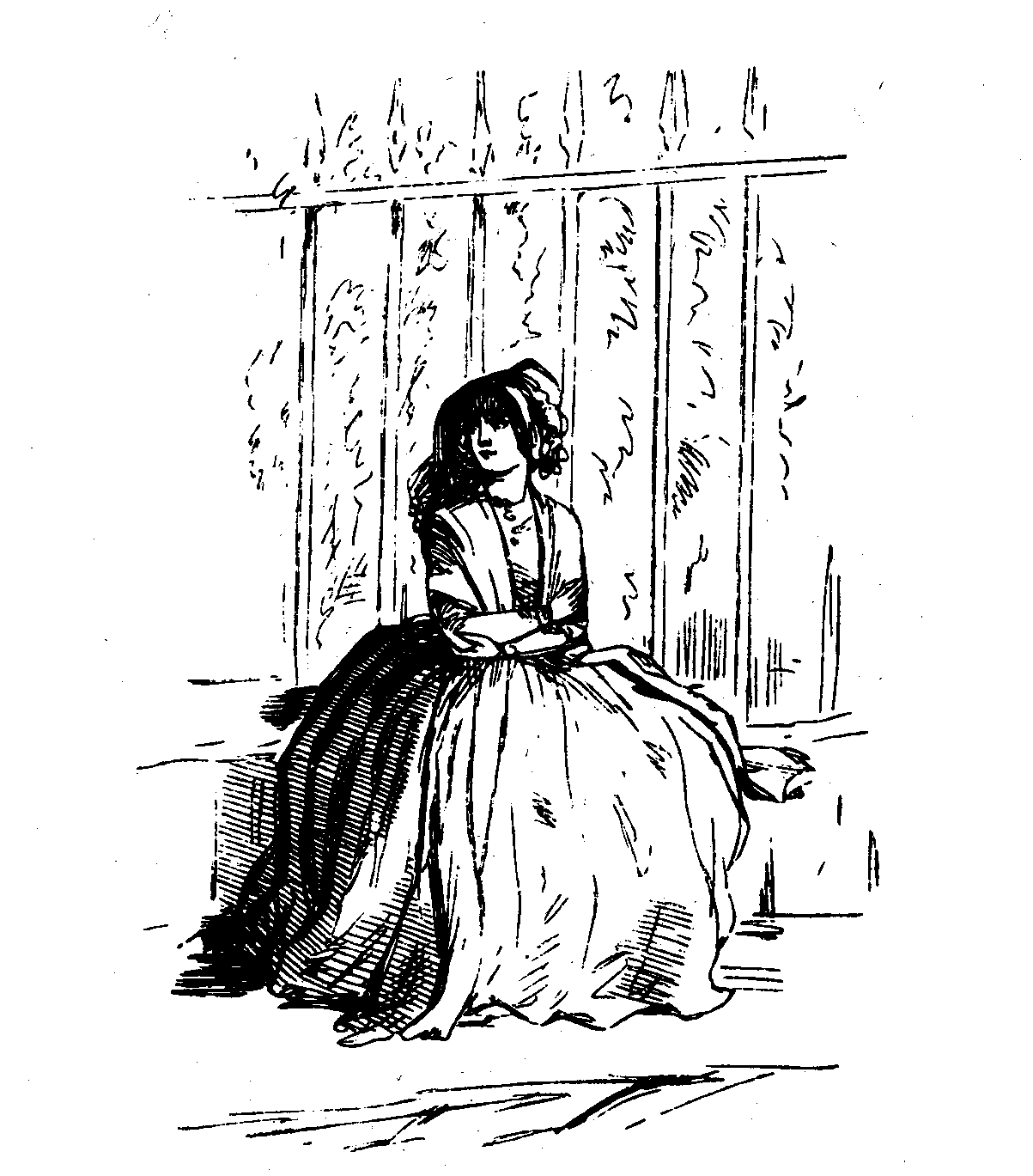 Вечно я все делаю наоборот: расписываю трудности сватовства и мерзости
несносных родственников, ни слова не сказав об Изабелле. Секрет в том, что
мою жену, вернее, то, что меня к ней привлекло, описать непросто. Можно,
конечно, рассказать, какая у нее была внешность (а еще лучше поместить здесь
один из моих карандашных набросков), но я сознаю свое бессилие: она
напоминала многих юных девушек, и если разбирать одну за другой черты ее
лица, в них не было ничего особенного, поэтому мои клятвенные заверения, что
Изабелла была - я в этом убежден - истинная красавица, покажутся вам пустым
бахвальством. И дело тут не в том, что для меня она была прекрасна, потому
что я любил ее - она и в самом деле была прекрасна, - а в том, что у нее был
тот редкий тип красоты, на который я всегда обращаю внимание, где бы его ни
встретил. Чтобы заметить эту неброскую красоту, между ее обладательницей и
восхищенным зрителем должно существовать душевное сродство. Нет, ничего не
получается, я не умею облекать сентиментальные воспоминания в изящные слова.
Попробую еще раз: с закрытыми глазами Изабелла не была так хороша, потому
что вся сила была в ее глазах, из них струились чистота, нежность и
мягкость, очаровавшие меня. В ней чувствовалась добродетель и спокойное
достоинство, которые больше всего пленяют меня в женщинах, и в то же время
пылкость чувств, неожиданная при таком мягком облике. Я не поклонник
величественных, бледноликих дев, которые сверкают и блистают в обществе, а
предпочитаю скромных девушек, которым так же мало хочется привлекать к себе
внимание, как, скажем, сквернословить. Если юная леди, которую я тщусь вам
описать, кажется вам простушкой, уверяю вас, это не так: и Изабелла, и все
ее сестры по духу - умные девушки с независимыми взглядами, просто они не
спешат выставлять свой ум напоказ. Они гораздо чаще опускают взор, чем
устремляют его с вызовом на собеседника, не рисуются обширностью своих
познаний и не спешат навязывать себя другим, но все это не означает, что в
них мало жизни или блеска: они предпочитают слушать, а не говорить, отчего
ничуть не делаются хуже. Критики сочли, что Эмилия из "Ярмарки тщеславия"
слишком идеальна, а значит, слишком скучна и быстро приедается, но если это
и так, то по вине повествователя и повествовательного жанра. Пробовали ли вы
когда-нибудь, читатель, растрогать публику рассказом о совершенной
добродетели? Невыполнимая задача, и Диккенс, как я заметил, справляется с
ней не лучше моего: добродетель блекнет при передаче в слове, тогда как
порок или, по крайней мере, нравственная слабость встают на бумаге как
живые. Все лучшие человеческие свойства, которые мы пытаемся запечатлеть, не
поддаются описанию, мы только и можем, что громоздить один эпитет на другой,
лишь увеличивая пустоту. Великая мера святости в герое не может не сердить
читателей или не вызывать у них улыбки недоверия, но даже если они и верят
этому его свойству, им быстро прискучивает столь безупречный персонаж.
В общем, хотя Изабелла во многом походила на Эмилию, которая, по мнению
критиков, не удалась мне, я все же дерзну, как это ни трудно, создать для
вас ее портрет. Замечу, что она была бледна, стройна, казалась хрупкой, что
у нее были прекрасные рыжие волосы, большие глаза и очень нежная улыбка. С
малознакомыми она держалась робко, но в обществе близких умела бурно
веселиться. Она неохотно делилась своими мыслями, но если удавалось ее
выспросить, ее суждения оказывались очень определенными. Меня к ней
привлекли не только внешность и манеры, которые были у нее как у настоящей
леди, но и ее явное восхищение моей особой. О, что за опьяняющий напиток!
Сумел ли бы я вынести ее презрение? Навряд ли. Увлекся ли бы я ею, если б
она меня не отличала? Не думаю. В тот первый вечер, когда, помню, увидел ее
в этом ужасном пансионе, она играла на рояле, а когда встала и, заливаясь
краской, повернулась к немногочисленным рукоплескавшим слушателям и наши
взгляды встретились, я, помню, ясно ощутил, что она в восторге от меня -
правда, я и сам был от нее в восторге - и хочет мне понравиться, хоть в этом
не было и тени кокетства, совершенно ей не свойственного. Есть ли на свете
мужчина, который точно так же, как и женщина, не жаждет поклонения? Хочется
верить, что речи мои не были бессвязными, - сам я находил собственное
остроумие неотразимым, а каждую фразу - перлом убийственной иронии. Изабелла
так смиренно, терпеливо и с обожанием во взоре выслушивала все, что я ни
изрекал, что под конец я раздулся от гордости. Казалось, она только и
думала, как угодить мне и одарить меня счастьем, - пожалуй, все то время,
что мы были вместе, она не знала никакого другого желания. Однако в ней не
было нерассуждающей покорности и уступчивости: как ни больно, как ни трудно
ей было возражать мне, она хотела и умела отстоять свои убеждения, когда они
приходили в столкновение с моими, - впрочем, столкновения эти бывали
пустяшными и не заслуживали такого громкого названия. Сначала она
колебалась, говорить ли, ее улыбка меркла, краска бросалась в лицо, потом
дрожащим голосом начинала перечислять, что, по ее мнению, верно или неверно
в том, что я сказал или сделал, - то было обворожительное зрелище, и я порой
не мог удержаться и намеренно вызывал в ней то, что она сама именовала
гневом. Гнев! Я думаю, она до самой смерти так и не знала, что такое гнев,
ярость, горечь, ненависть, - все эти мрачные чувства были неведомы моей
Изабелле. Нрав у нее был ангельский, и я почитал себя счастливейшим из
смертных.
Счастливейшим я и был бы, если бы не моя будущая теща - полная
противоположность своей дочери. Всю весну 1836 года я бился, чтобы получить
ее согласие на брак, но тщетно. Она упорствовала - я был неподходящей
партией. С терпением, которое мне самому казалось образцовым, я твердил ей о
новой газете, в которой предполагал работать, но она не уступала, и я снова
и снова напирал на то, что это будет твердый заработок - четыреста фунтов в
год и что риск обернется верной удачей. Я в самом деле в это верил, а не
придумывал заманчивые небылицы. Вышеупомянутая газета должна была называться
"Конститьюшенел энд Паблик Леджер", ее собиралось выпускать небольшое
акционерное общество, директором которого был мой отчим майор Кармайкл-Смит.
Предполагалось, что я стану ее парижским корреспондентом и буду писать об
искусстве и политике, а также обо всем, о чем мне заблагорассудится. На пост
редактора пригласили Ламана Бланшара, Дуглас Джерролд должен был возглавить
отдел театра, разные знаменитости обещали свою помощь. Надеюсь, вы меня не
осуждаете за то, что я пришел в восторг от этой перспективы? Я полагал, что
лучшей материальной базы для семейной жизни быть не может, но вы, кажется,
иного мнения? Я чувствую, вы колеблетесь, вы говорите, что понимаете мою
тещу и можете привести другие доводы, вроде того, что газета еще не вышла в
свет и неизвестно, будет ли она иметь успех, и пока я не заработал и
фартинга, а значит, незачем спешить. Черт подери, влюбленные не могут ждать!
Знаете ли вы, что то, чего вы требуете от пылкого молодого человека, и без
того страдавшего полгода, бесчеловечно. Теща моя бесчеловечна, и вы не
лучше.
Признаюсь, сейчас я чувствую раскаяние, не свойственное мне тогда. Да,
это был опасный шаг, не следовало разрешать его, не знаю, почему мои
родители не воспротивились, разве только по себе знали, каково это, когда
удушают первую любовь. То было поразительно великодушно: сказать своему
единственному, довольно беспутному отпрыску "дерзай" и позволить жениться на
его избраннице, не приведя ни единого возражения. Благодарю их за это от
души.
Однако вернемся к этому чудищу в юбке - миссис Шоу. По несчастному
стечению обстоятельств, мне приходилось по делам новой газеты часто ездить в
Лондон, вследствие чего я непрестанно разлучался с Изабеллой и оставлял ее
во власти матери. Хотя я ежедневно писал ей, чего стоят бумажные призывы в
сравнении с отравой, вливаемой прямо в уши? Эта мегера, ее мать, страстно
обличала преступность будущего брака, пока не измучила ее и не довела до
такого состояния, что здоровье девушки пошатнулось. Я оказался не особенно
догадлив, более того - я раздражался, когда не приходили письма от моей
любимой, не задаваясь вопросом, что может быть тому причиной. Но как она
могла писать мне о том, что лежало у нее на душе, если мать следила за
каждым ее шагом и делала все, чтоб не выпустить из рук? Ее записочки (их
даже письмами не назовешь, это было бы для них слишком лестно), короткие и
принужденные, занимавшие не больше полустранички, состояли из общепринятых
любезностей, которые могли быть адресованы кому угодно. Должен признаться,
дорогие моему сердцу женщины всегда были нерадивыми корреспондентками, то
был мой бич. Когда я умру, среди моих бумаг не найдется ни одного письма,
которое заслуживает название любовного, но как же сам я изливал душу, когда
мне представлялся случай, какие страстные послания оставлю после себя!
Интересно, хранит ли некая особа в пачке, перевязанной голубой ленточкой,
все эти письма, полные кипящих чувств, письма, в которых я открываю свое
сердце? Я говорю не о своей жене, хотя, возможно, и она прячет в
каком-нибудь потайном уголке эти первые невинные послания. Я не хотел бы их
видеть, как не хотел бы видеть и иные, адресованные той, второй, однако не
стал бы возражать, если бы их прочли другие люди. Мне было бы слишком больно
их перечитывать, я заплакал бы от одного их вида, но осмелюсь утверждать,
что вам они бы показались интересными. Они дышали искренностью, каждое их
слово было написано от чистого сердца, и мне остается лишь грустить от того,
что сам я ни разу в жизни не получил ничего похожего ни от своей жены, ни
от... какой-нибудь другой женщины.
Вечно я все делаю наоборот: расписываю трудности сватовства и мерзости
несносных родственников, ни слова не сказав об Изабелле. Секрет в том, что
мою жену, вернее, то, что меня к ней привлекло, описать непросто. Можно,
конечно, рассказать, какая у нее была внешность (а еще лучше поместить здесь
один из моих карандашных набросков), но я сознаю свое бессилие: она
напоминала многих юных девушек, и если разбирать одну за другой черты ее
лица, в них не было ничего особенного, поэтому мои клятвенные заверения, что
Изабелла была - я в этом убежден - истинная красавица, покажутся вам пустым
бахвальством. И дело тут не в том, что для меня она была прекрасна, потому
что я любил ее - она и в самом деле была прекрасна, - а в том, что у нее был
тот редкий тип красоты, на который я всегда обращаю внимание, где бы его ни
встретил. Чтобы заметить эту неброскую красоту, между ее обладательницей и
восхищенным зрителем должно существовать душевное сродство. Нет, ничего не
получается, я не умею облекать сентиментальные воспоминания в изящные слова.
Попробую еще раз: с закрытыми глазами Изабелла не была так хороша, потому
что вся сила была в ее глазах, из них струились чистота, нежность и
мягкость, очаровавшие меня. В ней чувствовалась добродетель и спокойное
достоинство, которые больше всего пленяют меня в женщинах, и в то же время
пылкость чувств, неожиданная при таком мягком облике. Я не поклонник
величественных, бледноликих дев, которые сверкают и блистают в обществе, а
предпочитаю скромных девушек, которым так же мало хочется привлекать к себе
внимание, как, скажем, сквернословить. Если юная леди, которую я тщусь вам
описать, кажется вам простушкой, уверяю вас, это не так: и Изабелла, и все
ее сестры по духу - умные девушки с независимыми взглядами, просто они не
спешат выставлять свой ум напоказ. Они гораздо чаще опускают взор, чем
устремляют его с вызовом на собеседника, не рисуются обширностью своих
познаний и не спешат навязывать себя другим, но все это не означает, что в
них мало жизни или блеска: они предпочитают слушать, а не говорить, отчего
ничуть не делаются хуже. Критики сочли, что Эмилия из "Ярмарки тщеславия"
слишком идеальна, а значит, слишком скучна и быстро приедается, но если это
и так, то по вине повествователя и повествовательного жанра. Пробовали ли вы
когда-нибудь, читатель, растрогать публику рассказом о совершенной
добродетели? Невыполнимая задача, и Диккенс, как я заметил, справляется с
ней не лучше моего: добродетель блекнет при передаче в слове, тогда как
порок или, по крайней мере, нравственная слабость встают на бумаге как
живые. Все лучшие человеческие свойства, которые мы пытаемся запечатлеть, не
поддаются описанию, мы только и можем, что громоздить один эпитет на другой,
лишь увеличивая пустоту. Великая мера святости в герое не может не сердить
читателей или не вызывать у них улыбки недоверия, но даже если они и верят
этому его свойству, им быстро прискучивает столь безупречный персонаж.
В общем, хотя Изабелла во многом походила на Эмилию, которая, по мнению
критиков, не удалась мне, я все же дерзну, как это ни трудно, создать для
вас ее портрет. Замечу, что она была бледна, стройна, казалась хрупкой, что
у нее были прекрасные рыжие волосы, большие глаза и очень нежная улыбка. С
малознакомыми она держалась робко, но в обществе близких умела бурно
веселиться. Она неохотно делилась своими мыслями, но если удавалось ее
выспросить, ее суждения оказывались очень определенными. Меня к ней
привлекли не только внешность и манеры, которые были у нее как у настоящей
леди, но и ее явное восхищение моей особой. О, что за опьяняющий напиток!
Сумел ли бы я вынести ее презрение? Навряд ли. Увлекся ли бы я ею, если б
она меня не отличала? Не думаю. В тот первый вечер, когда, помню, увидел ее
в этом ужасном пансионе, она играла на рояле, а когда встала и, заливаясь
краской, повернулась к немногочисленным рукоплескавшим слушателям и наши
взгляды встретились, я, помню, ясно ощутил, что она в восторге от меня -
правда, я и сам был от нее в восторге - и хочет мне понравиться, хоть в этом
не было и тени кокетства, совершенно ей не свойственного. Есть ли на свете
мужчина, который точно так же, как и женщина, не жаждет поклонения? Хочется
верить, что речи мои не были бессвязными, - сам я находил собственное
остроумие неотразимым, а каждую фразу - перлом убийственной иронии. Изабелла
так смиренно, терпеливо и с обожанием во взоре выслушивала все, что я ни
изрекал, что под конец я раздулся от гордости. Казалось, она только и
думала, как угодить мне и одарить меня счастьем, - пожалуй, все то время,
что мы были вместе, она не знала никакого другого желания. Однако в ней не
было нерассуждающей покорности и уступчивости: как ни больно, как ни трудно
ей было возражать мне, она хотела и умела отстоять свои убеждения, когда они
приходили в столкновение с моими, - впрочем, столкновения эти бывали
пустяшными и не заслуживали такого громкого названия. Сначала она
колебалась, говорить ли, ее улыбка меркла, краска бросалась в лицо, потом
дрожащим голосом начинала перечислять, что, по ее мнению, верно или неверно
в том, что я сказал или сделал, - то было обворожительное зрелище, и я порой
не мог удержаться и намеренно вызывал в ней то, что она сама именовала
гневом. Гнев! Я думаю, она до самой смерти так и не знала, что такое гнев,
ярость, горечь, ненависть, - все эти мрачные чувства были неведомы моей
Изабелле. Нрав у нее был ангельский, и я почитал себя счастливейшим из
смертных.
Счастливейшим я и был бы, если бы не моя будущая теща - полная
противоположность своей дочери. Всю весну 1836 года я бился, чтобы получить
ее согласие на брак, но тщетно. Она упорствовала - я был неподходящей
партией. С терпением, которое мне самому казалось образцовым, я твердил ей о
новой газете, в которой предполагал работать, но она не уступала, и я снова
и снова напирал на то, что это будет твердый заработок - четыреста фунтов в
год и что риск обернется верной удачей. Я в самом деле в это верил, а не
придумывал заманчивые небылицы. Вышеупомянутая газета должна была называться
"Конститьюшенел энд Паблик Леджер", ее собиралось выпускать небольшое
акционерное общество, директором которого был мой отчим майор Кармайкл-Смит.
Предполагалось, что я стану ее парижским корреспондентом и буду писать об
искусстве и политике, а также обо всем, о чем мне заблагорассудится. На пост
редактора пригласили Ламана Бланшара, Дуглас Джерролд должен был возглавить
отдел театра, разные знаменитости обещали свою помощь. Надеюсь, вы меня не
осуждаете за то, что я пришел в восторг от этой перспективы? Я полагал, что
лучшей материальной базы для семейной жизни быть не может, но вы, кажется,
иного мнения? Я чувствую, вы колеблетесь, вы говорите, что понимаете мою
тещу и можете привести другие доводы, вроде того, что газета еще не вышла в
свет и неизвестно, будет ли она иметь успех, и пока я не заработал и
фартинга, а значит, незачем спешить. Черт подери, влюбленные не могут ждать!
Знаете ли вы, что то, чего вы требуете от пылкого молодого человека, и без
того страдавшего полгода, бесчеловечно. Теща моя бесчеловечна, и вы не
лучше.
Признаюсь, сейчас я чувствую раскаяние, не свойственное мне тогда. Да,
это был опасный шаг, не следовало разрешать его, не знаю, почему мои
родители не воспротивились, разве только по себе знали, каково это, когда
удушают первую любовь. То было поразительно великодушно: сказать своему
единственному, довольно беспутному отпрыску "дерзай" и позволить жениться на
его избраннице, не приведя ни единого возражения. Благодарю их за это от
души.
Однако вернемся к этому чудищу в юбке - миссис Шоу. По несчастному
стечению обстоятельств, мне приходилось по делам новой газеты часто ездить в
Лондон, вследствие чего я непрестанно разлучался с Изабеллой и оставлял ее
во власти матери. Хотя я ежедневно писал ей, чего стоят бумажные призывы в
сравнении с отравой, вливаемой прямо в уши? Эта мегера, ее мать, страстно
обличала преступность будущего брака, пока не измучила ее и не довела до
такого состояния, что здоровье девушки пошатнулось. Я оказался не особенно
догадлив, более того - я раздражался, когда не приходили письма от моей
любимой, не задаваясь вопросом, что может быть тому причиной. Но как она
могла писать мне о том, что лежало у нее на душе, если мать следила за
каждым ее шагом и делала все, чтоб не выпустить из рук? Ее записочки (их
даже письмами не назовешь, это было бы для них слишком лестно), короткие и
принужденные, занимавшие не больше полустранички, состояли из общепринятых
любезностей, которые могли быть адресованы кому угодно. Должен признаться,
дорогие моему сердцу женщины всегда были нерадивыми корреспондентками, то
был мой бич. Когда я умру, среди моих бумаг не найдется ни одного письма,
которое заслуживает название любовного, но как же сам я изливал душу, когда
мне представлялся случай, какие страстные послания оставлю после себя!
Интересно, хранит ли некая особа в пачке, перевязанной голубой ленточкой,
все эти письма, полные кипящих чувств, письма, в которых я открываю свое
сердце? Я говорю не о своей жене, хотя, возможно, и она прячет в
каком-нибудь потайном уголке эти первые невинные послания. Я не хотел бы их
видеть, как не хотел бы видеть и иные, адресованные той, второй, однако не
стал бы возражать, если бы их прочли другие люди. Мне было бы слишком больно
их перечитывать, я заплакал бы от одного их вида, но осмелюсь утверждать,
что вам они бы показались интересными. Они дышали искренностью, каждое их
слово было написано от чистого сердца, и мне остается лишь грустить от того,
что сам я ни разу в жизни не получил ничего похожего ни от своей жены, ни
от... какой-нибудь другой женщины.
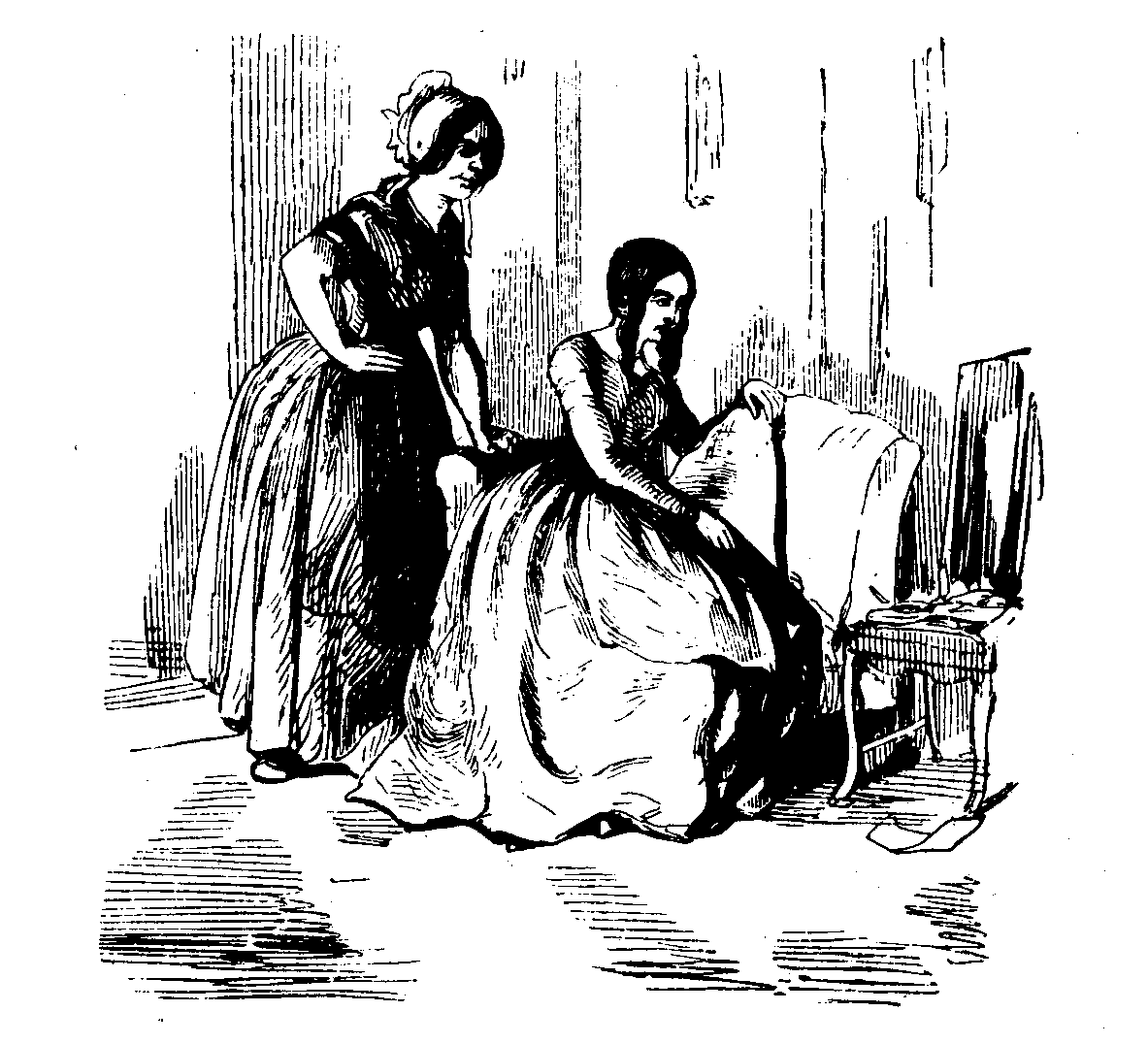 Короче говоря, я упрекал свою любимую за то, что она не пишет мне как
положено, хотя ничем не занята весь день. На самом деле, думал я о другом,
мне больше всего хотелось, чтобы она писала "как не положено", - подобно
мне, испещряла бумагу бесчисленными поцелуями, доверяла мне свои заветные
мечты и так же, как я, неудержимо и откровенно стремилась к совершению
некоего обряда. С таким же успехом я мог просить луну с неба. В ответ меня
уведомляли о самочувствии, погоде, о том, что маменька ополчается на мою
жестокость из-за того, что я добиваюсь их разлуки. Отвечать на этот щебет
было скучно, и, боюсь, порой я бывал нетерпелив и требовал хоть искры
чувства, что вызывало слезы другой стороны, после чего я тут же начинал
молить о прощении. Если бы мы с моей голубкой разлучились, - скажем, я уехал
бы на несколько лет служить в Индию и жил бы на другом краю земли, - смогла
бы выстоять наша любовь? Боюсь, что нет. По-моему, глупо говорить, что
настоящая любовь все может выдержать, я в это не верю, по крайней мере, не в
начале, когда ее не поддерживают узы брака. Как капля точит камень, так
Изабеллу донимала ее матушка и доняла бы в конце концов, даже если бы на это
ей потребовалось столько же лет, сколько капле' Изабелле не хватило бы
жизнестойкости, чтоб выдержать такое назойливое посягательство на ее
чувства. Я всегда считал, что настырность ее матери послужила началом всех
последующих бед, ибо причинила моей любимой такое горе, что нервные потери,
должно быть, оказались невосполнимы, но это означает, что и я, не проявивший
должной чуткости, был виноват не меньше миссис Шоу. Как тяжело, когда все в
жизни так запутывается!
Рыжеволосый образ Изабеллы преследовал меня в Лондоне повсюду, и я
вконец извелся. Я так измучился любовной лихорадкой, что решил жениться во
что бы то ни стало, независимо от того, будет выходить газета или нет; в
крайнем случае, мы могли поселиться в Лондоне у моих родителей (они как раз
недавно устроились на улице Альбион) и положиться на мое искусство
рисовальщика и на провидение. Я в самом деле думал, что если еще какое-то
время пробуду в разлуке с Изабеллой, то помешаюсь, помчусь в Париж и оттащу
ее за дивные косы от ее матери. Почти так все и произошло. К моему ужасу, -
и на этот раз я ничуть не преувеличиваю - в период чернейшего уныния я
получил письмо, из которого понял, что Изабелла хотела бы разорвать нашу
помолвку. Она обвиняла меня, желавшего разлучить ее с дорогой мамочкой, в
жестокости, словно разлука, на которой я вполне резонно настаивал, не
ограничивалась спальней - прошу прощения, если моя прямота вас покоробила. Я
просто погибал от гнева и горя и вовсе не собирался безропотно принять
суровый приговор: если Изабелла решила отказаться от меня, пусть скажет это
мне сама, своими собственными устами. Трудно было поверить, что она на это
способна. Что я такое сделал, в чем провинился, из-за чего такая перемена? Я
не знал за собой никакого проступка, все это были козни миссис Шоу, и я не
собирался стоять в стороне и ждать, пока она загубит мою жизнь. Помню, в
каком исступлении я сел писать ответ на это злосчастное письмо: я был не в
силах удержать перо в руке, не мог собраться с мыслями, не помнить о
приличиях. Я написал, что если огорчил ее, то неумышленно, - я каждый день
молился, чтоб небо отвратило меня от нечистых помыслов, которые могли бы
оттолкнуть ее, и что если я бывал не в меру страстен, то она, со своей
стороны, чрезмерно пеклась о мнении окружающих, и, по мне, уж лучше первое.
Я редко знал подобное неистовство, всего несколько раз в жизни мой ум
действительно мутился и меня охватывали такие мощные порывы чувства, что и
душой, и телом я погружался в полное смятение и сомневался, встречу ли
завтрашний рассвет. Какое благо прожить жизнь, не зная этого безумия, -
такие чувства оставляют по себе непреходящий след. Мне кажется, я и сегодня
вижу в зеркале морщины, прорезанные этими незабываемыми поворотами моей
жизненной истории, которые необратимо изменили соотношение черт - всю
географию лица. Гримасы боли проложили резкие морщины, на коже появились
ущелья - теснины горя, которые не исчезают, как я ни улыбаюсь.
Я, видимо, оказался красноречивее, чем ожидал, хотя не понимаю, как мои
сдавленные крики могли возыметь действие. Однако, когда я с великой
поспешностью, как мне и полагалось, вернулся в Париж и настоял на свидании с
Изабеллой, я застал ее раскаивающейся в поступке, к которому ее принудила
мать. Пришла пора проявить решительность и настойчивость, и на удивление
самому себе я проявил и то, и другое. Не стану задерживаться на всех
мерзостях, которые предшествовали нашему венчанию, - оно состоялось 20
августа 1836 года: Уильям Мейкпис Теккерей, 25 лет от роду, взял в жены
Изабеллу Геттин Шоу, 18 лет от роду, с согласия матери последней. Обратите
особое внимание на конец предыдущей фразы - "с согласия матери последней".
Вам, конечно, хочется узнать, как я воздействовал на миссис Шоу, но я вам
этого не расскажу по той простой причине, что уже не помню. Помню только,
что был в ударе, а гнев и пылкость придали особую силу моим доводам, но что
это были за доводы, мне уже не вспомнить. Согласие миссис Шоу было
необходимо - Изабелла была младшей, и мамаша знала, что держит на руках
козырь. Сама она, наверное, объяснила бы дело так, будто я грозился сбежать
с ее дочерью, -на что я был вполне способен - но ей бы следовало понимать,
что я не мог бы принести бесчестье любимой девушке. Она бы, чего доброго,
прибавила, будто я довел девушку до нервного срыва, и она как мать предпочла
уступить, опасаясь за жизнь дочери, - последнее верно, Изабелла способна
была умереть, если бы на ее любовь наложили запрет. Эта дама, миссис Шоу,
никогда не давала мне забыть об оказанной милости. Впоследствии, когда жизнь
сложилась так трагически, она всегда злобно шипела мне в спину, что она-де
меня предупреждала, она-де заранее предвидела, как все обернется, и тому
подобное. Ей было не понять, что если даже - не дай бог - она была права, я
все равно не жалею, что женился тогда.
Короче говоря, я упрекал свою любимую за то, что она не пишет мне как
положено, хотя ничем не занята весь день. На самом деле, думал я о другом,
мне больше всего хотелось, чтобы она писала "как не положено", - подобно
мне, испещряла бумагу бесчисленными поцелуями, доверяла мне свои заветные
мечты и так же, как я, неудержимо и откровенно стремилась к совершению
некоего обряда. С таким же успехом я мог просить луну с неба. В ответ меня
уведомляли о самочувствии, погоде, о том, что маменька ополчается на мою
жестокость из-за того, что я добиваюсь их разлуки. Отвечать на этот щебет
было скучно, и, боюсь, порой я бывал нетерпелив и требовал хоть искры
чувства, что вызывало слезы другой стороны, после чего я тут же начинал
молить о прощении. Если бы мы с моей голубкой разлучились, - скажем, я уехал
бы на несколько лет служить в Индию и жил бы на другом краю земли, - смогла
бы выстоять наша любовь? Боюсь, что нет. По-моему, глупо говорить, что
настоящая любовь все может выдержать, я в это не верю, по крайней мере, не в
начале, когда ее не поддерживают узы брака. Как капля точит камень, так
Изабеллу донимала ее матушка и доняла бы в конце концов, даже если бы на это
ей потребовалось столько же лет, сколько капле' Изабелле не хватило бы
жизнестойкости, чтоб выдержать такое назойливое посягательство на ее
чувства. Я всегда считал, что настырность ее матери послужила началом всех
последующих бед, ибо причинила моей любимой такое горе, что нервные потери,
должно быть, оказались невосполнимы, но это означает, что и я, не проявивший
должной чуткости, был виноват не меньше миссис Шоу. Как тяжело, когда все в
жизни так запутывается!
Рыжеволосый образ Изабеллы преследовал меня в Лондоне повсюду, и я
вконец извелся. Я так измучился любовной лихорадкой, что решил жениться во
что бы то ни стало, независимо от того, будет выходить газета или нет; в
крайнем случае, мы могли поселиться в Лондоне у моих родителей (они как раз
недавно устроились на улице Альбион) и положиться на мое искусство
рисовальщика и на провидение. Я в самом деле думал, что если еще какое-то
время пробуду в разлуке с Изабеллой, то помешаюсь, помчусь в Париж и оттащу
ее за дивные косы от ее матери. Почти так все и произошло. К моему ужасу, -
и на этот раз я ничуть не преувеличиваю - в период чернейшего уныния я
получил письмо, из которого понял, что Изабелла хотела бы разорвать нашу
помолвку. Она обвиняла меня, желавшего разлучить ее с дорогой мамочкой, в
жестокости, словно разлука, на которой я вполне резонно настаивал, не
ограничивалась спальней - прошу прощения, если моя прямота вас покоробила. Я
просто погибал от гнева и горя и вовсе не собирался безропотно принять
суровый приговор: если Изабелла решила отказаться от меня, пусть скажет это
мне сама, своими собственными устами. Трудно было поверить, что она на это
способна. Что я такое сделал, в чем провинился, из-за чего такая перемена? Я
не знал за собой никакого проступка, все это были козни миссис Шоу, и я не
собирался стоять в стороне и ждать, пока она загубит мою жизнь. Помню, в
каком исступлении я сел писать ответ на это злосчастное письмо: я был не в
силах удержать перо в руке, не мог собраться с мыслями, не помнить о
приличиях. Я написал, что если огорчил ее, то неумышленно, - я каждый день
молился, чтоб небо отвратило меня от нечистых помыслов, которые могли бы
оттолкнуть ее, и что если я бывал не в меру страстен, то она, со своей
стороны, чрезмерно пеклась о мнении окружающих, и, по мне, уж лучше первое.
Я редко знал подобное неистовство, всего несколько раз в жизни мой ум
действительно мутился и меня охватывали такие мощные порывы чувства, что и
душой, и телом я погружался в полное смятение и сомневался, встречу ли
завтрашний рассвет. Какое благо прожить жизнь, не зная этого безумия, -
такие чувства оставляют по себе непреходящий след. Мне кажется, я и сегодня
вижу в зеркале морщины, прорезанные этими незабываемыми поворотами моей
жизненной истории, которые необратимо изменили соотношение черт - всю
географию лица. Гримасы боли проложили резкие морщины, на коже появились
ущелья - теснины горя, которые не исчезают, как я ни улыбаюсь.
Я, видимо, оказался красноречивее, чем ожидал, хотя не понимаю, как мои
сдавленные крики могли возыметь действие. Однако, когда я с великой
поспешностью, как мне и полагалось, вернулся в Париж и настоял на свидании с
Изабеллой, я застал ее раскаивающейся в поступке, к которому ее принудила
мать. Пришла пора проявить решительность и настойчивость, и на удивление
самому себе я проявил и то, и другое. Не стану задерживаться на всех
мерзостях, которые предшествовали нашему венчанию, - оно состоялось 20
августа 1836 года: Уильям Мейкпис Теккерей, 25 лет от роду, взял в жены
Изабеллу Геттин Шоу, 18 лет от роду, с согласия матери последней. Обратите
особое внимание на конец предыдущей фразы - "с согласия матери последней".
Вам, конечно, хочется узнать, как я воздействовал на миссис Шоу, но я вам
этого не расскажу по той простой причине, что уже не помню. Помню только,
что был в ударе, а гнев и пылкость придали особую силу моим доводам, но что
это были за доводы, мне уже не вспомнить. Согласие миссис Шоу было
необходимо - Изабелла была младшей, и мамаша знала, что держит на руках
козырь. Сама она, наверное, объяснила бы дело так, будто я грозился сбежать
с ее дочерью, -на что я был вполне способен - но ей бы следовало понимать,
что я не мог бы принести бесчестье любимой девушке. Она бы, чего доброго,
прибавила, будто я довел девушку до нервного срыва, и она как мать предпочла
уступить, опасаясь за жизнь дочери, - последнее верно, Изабелла способна
была умереть, если бы на ее любовь наложили запрет. Эта дама, миссис Шоу,
никогда не давала мне забыть об оказанной милости. Впоследствии, когда жизнь
сложилась так трагически, она всегда злобно шипела мне в спину, что она-де
меня предупреждала, она-де заранее предвидела, как все обернется, и тому
подобное. Ей было не понять, что если даже - не дай бог - она была права, я
все равно не жалею, что женился тогда.
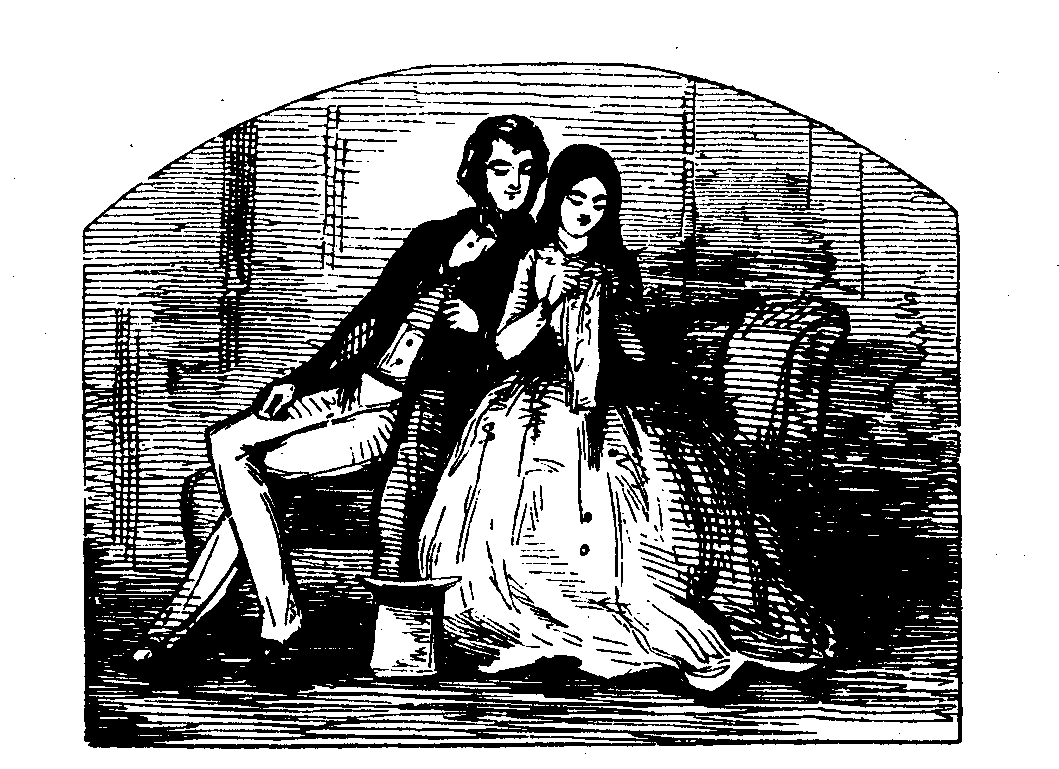 Нас обвенчали в доме британского посла в Париже в присутствии троих
свидетелей, от моей семьи никого не было. Не пели трубы и фанфары, не было
торжественного выхода подружек невесты и толпы элегантных гостей, то была
тихая, скромная церемония, пожалуй, даже сиротливая. Порою, проходя мимо
какой-нибудь церквушки, я вижу, как из нее выходят новобрачные, похожие на
нас с Изабеллой, в сопровождении кучки странноватых спутников, и это
трогательное зрелище вызывает у меня на глазах слезы. При виде такой
одинокой пары я неизменно задумываюсь, какая трепетная штука венчание и как
меркнет его волшебство из-за помпезных церемоний, словно прекрасный цветок в
бесчисленных обертках. То же происходит и со вторым значительным событием -
с похоронами, простите мне меланхоличность моих мыслей. Как часто, стоя с
одним-двумя друзьями у края наспех вырытой могилы, в которую опускают грубый
деревянный гроб, я исполняюсь истинного горя, но как же часто посреди густой
толпы в глубоком и великолепном трауре, рядом с роскошными, пунцовыми
султанами на лбу у черных лошадей и золоченым саркофагом, который точно так
же опускают в землю, я чувствую, что горе мое тает. Необходима простота,
чтоб сохранилось чувство, но, кажется, я снова взялся проповедовать. После
всяческого суесловия я наконец-то рассказал вам нечто важное, ибо любовь
мужчины к женщине - всегда важное событие. Когда я отбыл со своей женой
после венчания - своей женой, подумать только! - я чувствовал себя самым
счастливым человеком в мире. Мне было ни к чему, чтобы нас осыпали монетами
и рисом, чтоб убирали лентами карету, ибо сама моя радость достойно украшала
свадьбу. А как Изабелла? Была ли она счастлива? О да, но только трепетала,
даже плакала и во всем сомневалась, не то, что я, но мне хватало уверенности
на двоих. Какая чудесная, какая замечательная штука молодость!
^T6^U
^TСемейная идиллия в стесненных обстоятельствах^U
Перед всем тем мраком, который последует дальше, я бы хотел нарисовать
вам радостную картину, но тут передо мной встает неразрешимая задача: мое
перо бессильно описать идиллию. Счастье я бы дерзнул изобразить, но не
идиллию - она не поддается слову. Если я тонул, бился, из кожи вон лез,
стараясь показать вам добродетель, и окончательно удостоверился, что сделать
это невозможно, то в силах ли я воссоздать безоблачную атмосферу первых лет
моего супружества? Конечно, нет, конечно, мне с этим не справиться, но у
меня есть утешение: я испытал то, о чем пишу, и это главное. Вообразите, как
было бы ужасно взывать к прошлому, которое, на самом деле, было
малопривлекательно и которое я бы сейчас пытался приукрасить. Нет ничего
хуже, чем исходить слезами и хныкать о минувшем, зная в глубине души, что
оно ничуть не походило на картину, которую вы силитесь представить. Мне
радостно вспоминать, как мы с Изабеллой были счастливы в наших меблированных
комнатах на улице Нев-Сент-Огюстен, и этих воспоминаний никто у меня не
отнимет и не испортит кислой, сомневающейся миной. Мы были блаженно
счастливы, и этим все сказано.
Этим все сказано, но этим ничего не скажешь. Я захотел бы слишком
многого, если бы, сообщив вам наш парижский адрес, вообразил, что вы теперь
все знаете. Нет, я буду действовать иначе - я извлеку для вас из памяти
звуки, запахи и сцены, а вы их соберете в общую картину. (Надеюсь, мне
зачтется эта благородная попытка - после нее никто не сможет заявить, будто
старый циник только и пишет, что об изнанке жизни.) Начну с шарманки,
дрожащие звуки которой резко вступали и тут же обрывались, так и не
сложившись в ясный мелодический рисунок, а может быть, мне это только
казалось, ибо, разбуженный этими звуками, я тотчас засыпал снова. Вряд ли
шарманщик намеренно устраивался под нашим окном, но, неизменно под ним
располагаясь, с величайшим постоянством дарил нас утренней серенадой. Затем
вступал грохот колес: улица у нас была оживленная, и каждая повозка звучала
на свой лад. Порой мне представлялось, что наша комната куда-то славно катит
- так сильно было ощущение движения от проносившихся карет. А э
Нас обвенчали в доме британского посла в Париже в присутствии троих
свидетелей, от моей семьи никого не было. Не пели трубы и фанфары, не было
торжественного выхода подружек невесты и толпы элегантных гостей, то была
тихая, скромная церемония, пожалуй, даже сиротливая. Порою, проходя мимо
какой-нибудь церквушки, я вижу, как из нее выходят новобрачные, похожие на
нас с Изабеллой, в сопровождении кучки странноватых спутников, и это
трогательное зрелище вызывает у меня на глазах слезы. При виде такой
одинокой пары я неизменно задумываюсь, какая трепетная штука венчание и как
меркнет его волшебство из-за помпезных церемоний, словно прекрасный цветок в
бесчисленных обертках. То же происходит и со вторым значительным событием -
с похоронами, простите мне меланхоличность моих мыслей. Как часто, стоя с
одним-двумя друзьями у края наспех вырытой могилы, в которую опускают грубый
деревянный гроб, я исполняюсь истинного горя, но как же часто посреди густой
толпы в глубоком и великолепном трауре, рядом с роскошными, пунцовыми
султанами на лбу у черных лошадей и золоченым саркофагом, который точно так
же опускают в землю, я чувствую, что горе мое тает. Необходима простота,
чтоб сохранилось чувство, но, кажется, я снова взялся проповедовать. После
всяческого суесловия я наконец-то рассказал вам нечто важное, ибо любовь
мужчины к женщине - всегда важное событие. Когда я отбыл со своей женой
после венчания - своей женой, подумать только! - я чувствовал себя самым
счастливым человеком в мире. Мне было ни к чему, чтобы нас осыпали монетами
и рисом, чтоб убирали лентами карету, ибо сама моя радость достойно украшала
свадьбу. А как Изабелла? Была ли она счастлива? О да, но только трепетала,
даже плакала и во всем сомневалась, не то, что я, но мне хватало уверенности
на двоих. Какая чудесная, какая замечательная штука молодость!
^T6^U
^TСемейная идиллия в стесненных обстоятельствах^U
Перед всем тем мраком, который последует дальше, я бы хотел нарисовать
вам радостную картину, но тут передо мной встает неразрешимая задача: мое
перо бессильно описать идиллию. Счастье я бы дерзнул изобразить, но не
идиллию - она не поддается слову. Если я тонул, бился, из кожи вон лез,
стараясь показать вам добродетель, и окончательно удостоверился, что сделать
это невозможно, то в силах ли я воссоздать безоблачную атмосферу первых лет
моего супружества? Конечно, нет, конечно, мне с этим не справиться, но у
меня есть утешение: я испытал то, о чем пишу, и это главное. Вообразите, как
было бы ужасно взывать к прошлому, которое, на самом деле, было
малопривлекательно и которое я бы сейчас пытался приукрасить. Нет ничего
хуже, чем исходить слезами и хныкать о минувшем, зная в глубине души, что
оно ничуть не походило на картину, которую вы силитесь представить. Мне
радостно вспоминать, как мы с Изабеллой были счастливы в наших меблированных
комнатах на улице Нев-Сент-Огюстен, и этих воспоминаний никто у меня не
отнимет и не испортит кислой, сомневающейся миной. Мы были блаженно
счастливы, и этим все сказано.
Этим все сказано, но этим ничего не скажешь. Я захотел бы слишком
многого, если бы, сообщив вам наш парижский адрес, вообразил, что вы теперь
все знаете. Нет, я буду действовать иначе - я извлеку для вас из памяти
звуки, запахи и сцены, а вы их соберете в общую картину. (Надеюсь, мне
зачтется эта благородная попытка - после нее никто не сможет заявить, будто
старый циник только и пишет, что об изнанке жизни.) Начну с шарманки,
дрожащие звуки которой резко вступали и тут же обрывались, так и не
сложившись в ясный мелодический рисунок, а может быть, мне это только
казалось, ибо, разбуженный этими звуками, я тотчас засыпал снова. Вряд ли
шарманщик намеренно устраивался под нашим окном, но, неизменно под ним
располагаясь, с величайшим постоянством дарил нас утренней серенадой. Затем
вступал грохот колес: улица у нас была оживленная, и каждая повозка звучала
на свой лад. Порой мне представлялось, что наша комната куда-то славно катит
- так сильно было ощущение движения от проносившихся карет. А э