�Чезар Петреску. Фрам�
---------------------------------------------------------------
Повесть о белом медведе
Перевод с румынского М. ОЛСУФЬЕВА
_________
Обложка и рисунки Н. ПОПЕСКУ
OCR: В.Григоров
---------------------------------------------------------------
 ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
 ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
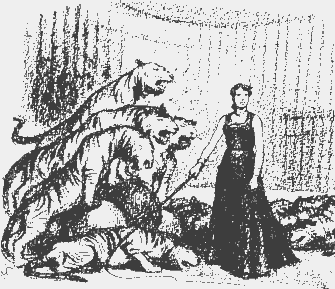 I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
 * * *
* * *
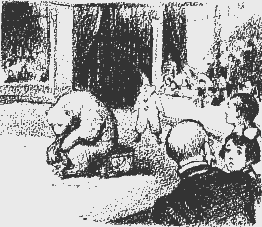 II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
 И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
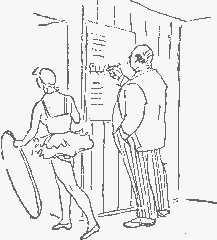 * * *
* * *
 III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
 * * *
* * *
 IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
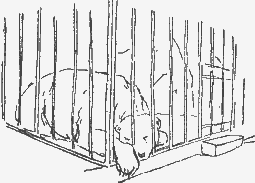 * * *
* * *
 V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
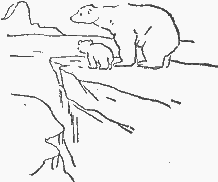 * * *
* * *
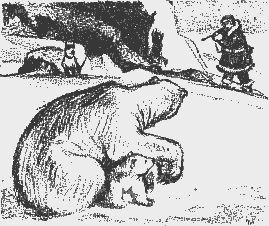 VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей
VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
 ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
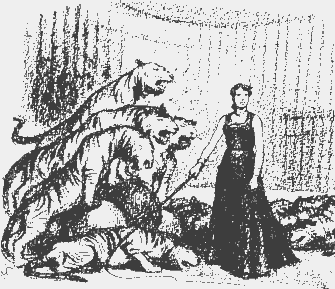 I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
 * * *
* * *
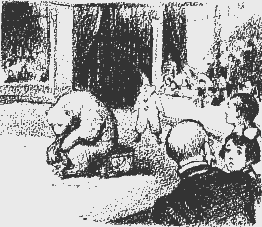 II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
 И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
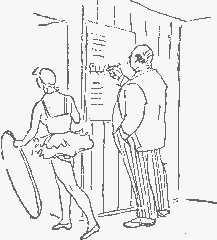 * * *
* * *
 III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
 * * *
* * *
 IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
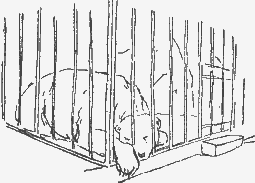 * * *
* * *
 V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
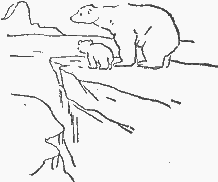 * * *
* * *
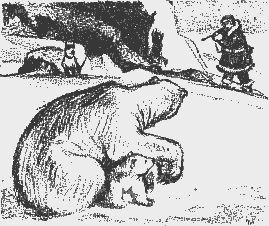 VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей
VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей