чего, кроме завывания ветра на льду.
Облака снега ошалело катятся по торосам и ледяной глади, а сквозь белую
пелену скользит полная луна, которой нет дела до бега времени. Она безмолвно
следует по своему пути, равнодушная к человеческим страданиям.
Мы затеряны в жуткой ледяной пустыне, за тысячи километров от дорогих
нам существ, и наши мысли то и дело возвращаются к любимому, родному краю.
Одна страница вечности дописана, открывается другая. Что в ней будет?
1 января 1896. Термометр показывает 41,5° ниже нуля. Лютый мороз.
Никогда еще этой зимой не было такого холода. Я полностью ощутил это
особенно вчера, когда у меня замерзли кончики всех пальцев.
8 января... Ужасающая пурга... Стоит высунуть голову из нашей ледяной
хижины, как бешеный ветер норовит подхватить тебя и закинуть бог весть
куда... У нас жестоко мерзнут ноги. Мы часами колотим их одну о другую, но
согреть никак не можем.
Нет, мне никогда не забыть этих страшных ночей! И среди всех страданий
мысль все время улетает на родину, к своим!
А время бежит... Лив, моей девочке, исполняется сегодня три года. Уже
большая, наверно. Бедный ребенок! Нет, Лив, ты не потеряешь отца! Надеюсь,
что твой будущий день рождения мы проведем вместе. Я буду рассказывать тебе
о медведях, о моржах, о песцах, о всех диковинных зверях, которые обитают в
этих нехоженых местах.
1 февраля... Любопытную жизнь ведем мы в этой ледяной берлоге среди
полярной ночи! Хотя бы почитать какую-нибудь книжку!.. Лоции и календарь я
перечел столько раз, что знаю их наизусть. Но как бы то ни было, один вид
печатного слова для нас утешение: тонкая ниточка, которая соединяет нас с
цивилизацией.
16 мая... Опять медведи. Медведица с медвежонком. Убивать этих животных
нет смысла, потому что у нас еще достаточно запасов от прежней охоты. Но мы
считаем, что не мешает приблизиться и понаблюдать за ними, а в то же время и
дать им острастку, чтоб они не тревожили нас ночью.
При нашем появлении медведица принимается рычать, но сейчас же отходит,
мордой подталкивая перед собой медвежонка. Иногда она останавливается и
оборачивается посмотреть, что мы делаем.
Дойдя до берега, семейство отправляется дальше, пробираясь между льдин;
мать впереди, прокладывая путь детенышу. Тем временем я почти догоняю их,
так что нас теперь разделяет всего несколько шагов.
Медведица тотчас поворачивается и весьма угрожающе двигается на меня.
Она подходит совсем близко, устрашающе рычит, но не двигается с места, пока
не убеждается, что медвежонок немного отдалился. Тогда, сделав несколько
больших шагов, я быстро догоняю его.
Медведица повторяет маневр, чтобы защитить детеныша и прикрыть его
отступление. Ясно, что ей очень хочется броситься и растерзать меня в
клочки. Но прежде всего ее заботит безопасность медвежонка. Она отходит лишь
тогда, когда он опять отдаляется на некоторое расстояние. Добрались до
ледника, мать опережает детеныша, чтобы показывать ему дорогу. Быстро идти
по снегу малыш не может. Медведица толкает его, следя за каждым моим шагом,
за каждым движением.
Такая материнская любовь действительно трогательна...
Петруш отрывается от книги и смотрит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана, пытаясь отыскать на ней то место, где находился
Нансен, когда писал эти строки в своем дневнике.
Уже поздно. Но мальчик не чувствует усталости. Его не клонит ко сну.
Дневник Нансена близится к концу. Он хорошо знаком Петрушу, который уже раз
прочел его. И все же он ни за что не ляжет, пока не пробежит глазами
последних страниц.
Так же, как Нансена, когда он писал свой дневник, вдохновляли
переживаемые им перипетии, так вдохновляют они теперь и его маленького
читателя. Умом и сердцем он участвует в них, они доказывают ему, что
человеческое упорство и воля сильнее враждебных стихий.
Ни холод, ни пурга, ни голод не могут одолеть человека.
Победа остается за ним. Достаточно быть готовым к борьбе, трезво
мыслить и никогда не терять ни хладнокровия, ни веры в свои силы.
Петруш снова склонился над книгой, он дочитывает последние страницы
дневника Нансена.
12 июня... Выходим в четыре утра, подняв парус на нартах. За ночь мороз
скрепил снег. Подгоняемые попутным ветром, мы надеемся двигаться легко и
быстро, как на парусной лодке...
Хмурая окраска неба на юге доказывает, что вода там свободна от льда. И
в самом деле, мы слышим, к нашей радости, рев яростных волн. В шесть часов
останавливаемся.
Мы снова перед свободным, ожившим, одухотворяющим морем. Какая радость
слышать его знакомый рев после того, как мы так долго видели его скованным
тяжелым стеклянистым панцирем!
Каяки спущены на воду; примкнуты борт к борту; паруса подняты... Теперь
вперед!..
Под вечер мы высаживаемся на кромке берегового льда, чтобы размять
ноги, затекшие после долгого путешествия в каяке.
Разгуливаем взад и вперед возле каяков. Морской ветер спал; кажется, он
все более заворачивает к западу. Интересно, сможем ли мы продолжать плавание
при таком ветре? Чтобы удостовериться в этом, залезаем на ближайший торос...
Вглядываюсь в горизонт.
-- Каяки унесло!.. -- кричит Иогансен.
Бежим со всех ног к берегу. Каяки уже далеко, их быстро уносит в
открытое море: веревка, которой они были привязаны, порвалась.
-- Держи часы!.. -- говорю я Иогансену.
И мигом скидываю одежду, которая помешает мне плыть. Но раздеться
совсем не решаюсь -- боюсь судороги. Прыжок -- и я в воде!
Ветер дует с суши и быстро гонит каяки в открытое море. Вода ледяная,
одежда стесняет движения, а каяки все более отдаляются.
Я не только не догоняю их, а наоборот, отстаю. Поймать их мне
представляется почти невозможным.
Но они уносят с собой последнюю надежду на спасение и все, что мы
имеем. У нас не осталось даже ножа. Утону ли я или вернусь на берег без
каяков -- результат будет тот же: неминуемая гибель для обоих.
Я упорствую и делаю отчаянное усилие. Только такой ценой мы еще можем
спастись. Когда устаю, ложусь на спину. В этом положении мне виден Иогансен,
который нетерпеливо топчется на льду. Бедняге не стоится на месте: положение
его действительно ужасно, потому что, с одной стороны, он лишен возможности
прийти мне на помощь, а с другой -- у него нет ни малейшей надежды на успех
моих усилий. Броситься в воду за мной не имело никакого смысла. Позже он
говорил мне, что это ожидание было самым мучительным моментом в его жизни.
Снова плывя на груди, я увидел, что каяки от меня недалеко. Это придало
мне сил, и я еще отчаяннее заработал руками и ногами. Ноги, однако, начали
неметь: скоро я больше не смогу ими двигать...
Между тем расстояние все уменьшалось. Если я выдержу еще несколько
мгновений, мы спасены. Итак, вперед!.. Я все больше приближаюсь к каякам.
Еще одно усилие, и я буду в одном из них!
Наконец-то! Хватаюсь за лыжу, которая лежит в задней части каяков, и
подтягиваюсь к ним. Мы спасены! Пытаюсь взобраться в каяк, но окоченевшее
тело отказывается мне служить. Одно мгновение мне кажется, что все напрасно:
я достиг цели, но она не дается мне в руки.
После этой страшной минуты сомнения мне все же удается занести ногу на
нарты и вскарабкаться на них. Пользуюсь этой точкой опоры и сразу берусь за
весло. Но тело мое так онемело, что я еле двигаюсь.
Нелегко мне было грести одному в двух каяках. Приходилось все время
поворачиваться, делая гребок то направо, то налево. Конечно, если бы мне
удалось разъединить каяки и грести только в одном, взяв другой на буксир,
дело пошло бы куда легче. Однако в том состоянии, в котором я находился,
такой маневр был невозможен: мороз сковал бы меня прежде, чем я успел бы это
проделать. Лучшим средством согревания оставалась энергичная гребля.
Но я весь закоченел. Когда ветер дул с моря, мне казалось, что меня
пронизывают тысячи копий. Мороз пробрал меня окончательно: я стучал зубами,
дрожал всем телом, но решил не сдаваться -- изо всех сил работать веслами. И
мне это удалось!
Вдруг я увидел перед собой двух кайр. Соблазн был чересчур велик: я
схватил ружье и одним выстрелом убил обеих птиц.
Иогансен рассказывал мне потом, как он перепугался, когда услышал этот
выстрел: думал, что случилось несчастье и никак не мог понять, что я делаю.
А когда увидел, что я гребу и показываю ему добычу, решил, что я, наверно,
сошел с ума.
Наконец я добрался до берега, но меня отнесло течением далеко от того
места, где я бросился в воду. Иогансен прибежал по кромке льда мне
навстречу.
Я вконец обессилел. Тащусь, еле держась на ногах и лязгая зубами.
Иогансен раздевает меня, укладывает и накрывает всем, что только может
найти. Меня продолжает трясти. Пока он ставил палатку и жарил кайр, я
заснул. Когда проснулся, обед был готов. Упоительно горячий суп и чудесное
жаркое стерли последние следы этого ужасного приключения, словно его вовсе и
не бывало...
15 июня... Отправляемся дальше в час ночи. Погода тишайшая. Море кишит
моржами...
Быстро подвигаемся вдоль берега. К несчастью, густой туман скрывает все
и мешает разбираться в топографии... Прямо перед нами показывается морж.
Иогансен, который гребет впереди на своем каяке, ищет укрытия за плавучей
льдиной.
Пока я собираюсь последовать его примеру, морское чудовище бросается на
мой каяк, стараясь опрокинуть его клыками. Сильный удар веслом по голове
заставляет его повернуться. Однако он тут же повторяет атаку. Тогда я
хватаюсь за ружье, но морж исчезает.
Но как раз когда я радовался избавлению от опасности, почувствовал, что
мои ноги в воде. Оказывается, морж продырявил клыками дно каяка, который
быстро наполняется водой. Едва успеваю выскочить на плавучий ледяной утес:
каяк опрокидывается. Все же мне удается с помощью Иогансена вытянуть его на
льдину.
Все мое имущество теперь плавает в каяке, наполненном водой. Боюсь, как
бы не погибли наши драгоценные фотографические пластинки.
Длина пробоины -- 15 сантиметров. Такая починка не шутка, особенно с
тем скромным набором инструментов, которым мы располагаем.
17 июня... Было далеко за полдень, когда я проснулся и принялся за
приготовление завтрака. Приношу воду для супа, развожу огонь, режу мясо,
словом, налаживаю стряпню.
Затем вылезаю на ближайший торос и оглядываю окрестности.
Ветерок доносит с ближайшей суши гомон птиц, которые гнездятся в
скалах. Слушаю этот звук, следя глазами за стаями кайр, которые кружат над
моей головой; любуюсь белой полоской берега с черными пятнами скал.
Внезапно оттуда доносится собачий лай. Или мне показалось? Вздрагиваю и
прислушиваюсь. Но ничего больше не слышно, кроме горластых птиц. Впрочем,
нет: опять лай! Сомнений быть не может!
Тут я вспоминаю, что слышал вчера что-то похожее на два ружейных
выстрела, но приписал этот звук сжатию льда.
Кричу Иогансену, что в этой части суши слышны собаки.
-- Собаки? -- машинально повторяет он спросонья. -- Собаки?! Он сейчас
же встает и идет в разведку.
Мой спутник ни за что не желает мне верить. Он тоже слышал что-то вроде
собачьего лая, но гомон птичьего базара заглушал все. По его мнению, меня
просто обманул слух. Я, однако, уверен, что не ошибся.
За торопливым завтраком мы теряемся в догадках. Может быть, в этих
местах находится какая-нибудь экспедиция? Если так, то кто это? Англичане
или соотечественники? Что, если это та самая английская экспедиция, которая
собиралась обследовать Землю Франца-Иосифа, когда мы отправлялись в
плавание? Как нам тогда быть?
-- Очень просто! -- говорит Иогансен. -- Мы проведем с ними денек-
другой, а потом направимся к Шпицбергену. Иначе бог весть, когда мы попадем
домой!..
В этом отношении я с ним совершенно согласен. Займем у англичан
провизии, в которой мы так нуждаемся, и отправимся дальше.
Покончив с завтраком, я ухожу на рекогносцировку, а Иогансена оставляю
сторожить каяки.
Теперь я слышу только гомон птичьего базара и пронзительные крики кайр.
Возможно, что Иогансен прав. Пожалуй, я и в самом деле ошибся.
Вдруг я замечаю на снегу следы. Они слишком велики для песца. Значит,
здесь, в каких-нибудь ста метрах от нашего стана, прошли собаки. Почему же
они не лаяли? Как это мы их не видели? А может, это все-таки следы песцов?..
В голове у меня странная путаница. Я перехожу от сомнения к
уверенности, потом снова начинаю сомневаться. Неужели же сейчас настанет
конец нашим сверхчеловеческим трудам, всем нашим страданиям и лишениям? Мне
это кажется почти невероятным. И все же, быть может, это именно так.
Слышу лай, теперь уже гораздо более отчетливый, и повсюду вокруг вижу
следы, которые могут быть только собачьими. Потом опять ничего, кроме гама
крылатых стай. И меня вновь одолевает сомнение. Уж не сон ли все это?
Но нет! Это настоящие следы на настоящем снегу. Я вижу их своими
глазами, касаюсь руками...
Если действительно экспедиция обосновалась в этих местах, куда мы
добрались вчера, значит, мы находимся не на Земле Гиллиса или на
какой-нибудь новой суше, как я думал, а на южном побережье Земли
Франца-Иосифа, как мы и предполагали несколько дней тому назад.
Перебираюсь наконец со льда на сушу, и вдруг мне кажется, что я слышу
человеческий голос.
Первый, после трех лет, чужой голос! Сердце бьется так сильно, что того
и гляди разорвется.
Залезаю на скалу и кричу изо всех сил. Этот неизвестный голос среди
ледяной пустыни прозвучал для меня, как голос самой жизни, как приветствие
далеких земель, может быть, даже родины.
Вскоре я слышу другой голос, потом среди белых ледяных вершин вижу
черную фигуру. Потом еще одну черную фигуру... Человека. Человек!..
Уж не Джонсон ли это или один из его спутников? А может,
соотечественник? Идем навстречу друг другу. Махаю шапкой. Он тоже. Слышу,
как он разговаривает с собакой. Нет, не норвежец. Еще несколько шагов, и мне
кажется, что я узнаю начальника иностранной экспедиции, с которым уже
встречался однажды, до нашего отплытия.
Я приветствую его, и мы жмем друг другу руки.
Над нами полог тумана, под ногами -- шершавый, неровный лед. Вокруг
тонкая полоска суши, сплошь покрытой льдом и снегом. Идем рядом: щеголеватый
исследователь, который, видно, не отваживался заходить в глубь полной
опасностей полярной пустыни, лощеный господин в высоких резиновых сапогах,
распространяющий вокруг очень приятный запах мыла, к которому весьма
чувствительно острое обоняние такого примитивного человека, как я, и дикарь
в отрепьях, с длинными волосами и дремучей бородой, покрытый грязью и
копотью тюленьего жира, которым заправлена наша лампа. В таком виде сам черт
меня не узнал бы.
-- Очень счастлив вас встретить! -- говорит незнакомец.
-- Спасибо. Я тоже.
-- Ваше судно где-нибудь поблизости?
-- Нет. Оно не здесь.
-- Сколько вас?
-- Я и мой товарищ, который остался на кромке льда. Разговаривая таким
образом, мы направляемся к берегу. Вдруг не знакомец останавливается,
внимательно смотрит на меня и восклицает:
-- А вы, случайно, не Нансен?
-- Он самый.
-- Бог ты мой! Как я рад вас видеть!
Дружески улыбаясь, он горячо жмет мне руки, потом спрашивает:
-- Откуда вы?
-- На 84° северной широты, после двухлетнего плавания, я и мой товарищ
покинули наше судно "Фрам" на волю ветра и течения и достигли 86°13'. Оттуда
мы добрались до Земли Франца-Иосифа, где и зимовали. А теперь направляемся к
Шпицбергену...
-- Рад слышать о вашей удаче. Вы совершили блестящее путешествие, и я в
восторге, что на мою долю выпало счастье первым поздравить вас!
Иностранец снова пожимает мне руку. В теплоте этого рукопожатия я
ощущаю нечто большее, чем простую вежливость. Он предлагает нам
гостеприимство в своем лагере и сообщает мне, что они со дня на день ожидают
судно с провизией для экспедиции. Как только приходит мой черед говорить, я
спрашиваю его о моей семье и узнаю, что когда, два года тому назад, он
отправлялся в плавание, жена моя и дочь были совершенно здоровы. Потом
спрашиваю о Норвегии, моей дорогой родине...
Затем каждый из нас делает по два выстрела, чтобы оповестить Иогансена.
Немного погодя мы встречаемся с целой группой участников экспедиции,
знакомимся, начинаются поздравления. Вскоре происходит встреча и с
остальными ее членами -- учеными разных специальностей, в том числе и
ботаниками. Ботаник Фишер говорит мне, что, увидев издали незнакомого
человека, он сразу подумал, что это мог быть только я, но потом, когда перед
ним предстал мужчина с черными, как смоль, волосами и бородой, решил, что
ошибся. Когда все собрались, начальник экспедиции сообщил, что мы достигли
86°13'.
Громкое троекратное "ура" приветствовало эту новость...
За разговором мы незаметно дошли до стана экспедиции -- деревянного
дома русского образца.
Входим в это теплое гнездышко, затерянное среди ледяной неприютной
пустыни. Потолок и стены затянуты зеленым сукном, на стенах-- фотографии и
гравюры, этажерки заставлены книгами и приборами. Сушится одежда и обувь.
Посреди топится печка. Необыкновенное ощущение мира и радости охватывает
меня среди всех этих непривычных предметов, от которых мы успели отвыкнуть.
Три года тяжелой ответственности и постоянной тревоги мгновенно спадают с
моих плеч. Впервые чувствую себя в безопасности среди льдов. Мучительное
ожидание, которое было моим уделом в эти годы борьбы, исчезает в лучезарном
сиянии восходящего солнца. Мой долг выполнен, дело завершено.
Теперь мне остается только отдыхать и ждать прибытия парохода, который
доставит меня на родину.
Джэксон передает мне тщательно запечатанную шкатулку. В ней письма из
Норвегии. Он взял их наудачу, с тем чтобы передать мне, если нас сведет
случай. И случай доставил мне эту радость. Открываю шкатулку дрожащими
руками, с отчаянно бьющимся сердцем. Все письма приносят только добрые
вести.
На стол передо мной ставится все, что нужно для обильного завтрака:
хлеб, масло, молоко, сахар, кофе, вкус которых я забыл за полтора с лишним
года.
Но самое ценное благодеяние цивилизации я познал лишь тогда, когда
скинул с себя отрепья и выкупался. Грязи на нас накопилось столько, что мы
избавились от нее только после бесчисленных омовений. А когда мы оделись в
чистое, мягкое платье, побрились и остригли длинные, сбитые в войлок волосы,
превращение из дикарей в цивилизованных людей было завершено. Оно произошло
быстрее, чем наше преображение и приспособление в обратном смысле, которое
совершилось восемнадцать месяцев тому назад, когда мы с Иогансеном оказались
одни среди ледяной пустыни.
Мы живем в мире и уюте, поджидая судно, которое вернет нас на родину.
Вместе с научной экспедицией занимаемся проверкой наблюдений, тщательно
собранных нами за долгое путешествие.
26 июля... Наконец "Виндворд", судно с провизией, прибыло!.. Мы
грузимся, я поднимаюсь на палубу... Узнаем удивительные новости о том, что
произошло на свете за наше отсутствие. При помощи лучей Рентгена можно
фотографировать людей сквозь деревянные двери в несколько сантиметров
толщиной, а также засевшие в теле раненых пули! Шпицберген открыт для
туристов! Норвежское пароходное общество обеспечивает регулярное сообщение
между нашей страной и этим полярным краем. Там построена гостиница и
работает почтовое отделение с особыми марками. Швед Андре задумал добраться
до полюса на воздушном шаре и ждет только попутного ветра. Если бы мы дошли
до Шпицбергена, мы нашли бы там комфортабельную гостиницу и встретили бы
туристов, а не бедных рыбаков, как мы думали. Забавно получилось бы
оказаться в толпе туристов грязными, оборванными, в том виде, в каком мы
вышли из нашего зимнего логова.
7 августа... Настала минута прощания и с этим последним привалом на
нашем пути... "Виндворд" везет нас домой. Путешествие проходит быстро и
приятно.
Вечером 12 августа различаю впереди черную полоску, очень низко, на
линии горизонта. Что это такое? Это земля, земля Норвегии! Гляжу долго,
часами, как завороженный. Большую часть ночи провожу на палубе, любуясь этой
темной полоской. Меня пробирает лихорадочная дрожь: какие вести ждут нас
дома?
21 августа... Бросаем якорь в порту Хаммерфеста, самого северного
города нашей дорогой родины. Со всех концов земного шара проливается целый
поток поздравительных телеграмм. Но о "Фраме" нет никаких известий. Такое
запоздание начинает быть странным и внушает беспокойство.
Утром 26 августа меня будят. Какой-то человек настойчиво желает со мной
говорить.
-- Сию минуту! Только оденусь.
-- Ничего. Выходите так!..
Поспешно одеваюсь и нахожу заведующего почтово-телеграфным отделением с
депешей.
-- Очень важная для вас телеграмма из Скьерве! -- говорит он. --
Поэтому я решил вручить ее вам лично...
В эту минуту я не думаю ни о чем другом на свете, кроме как о "Фраме" и
судьбе моих спутников.
Дрожащими руками вскрываю депешу и читаю: Доктору Нансену
Фрам прибыл сюда сегодня. Все в порядке.
Все здоровы. Сейчас выходим в Тромсе. Приветствуем вас на родине.
Отто Свердруп.
Я так взволнован, что почти теряю дар слова.
-- Прибыл "Фрам"! -- наконец удается мне произнести.
Перечитываю телеграмму несколько раз, не веря своим глазам. В городе,
во всей Норвегии начинается всеобщее ликование.
На следующий день мы в Тромсе, где уже стоит на якоре "Фрам". Последний
раз, что я его видел, наше судно было наполовину погребено во льду. Я
оставил его вместе с нашими спутниками во власти дрейфующих льдов, чтобы
проверить океанские течения, что и составляло главную задачу экспедиции, а
сам отправился с Иогансеном по льду и разводьям, чтобы обследовать другие
пустынные области, где мы с ним и пробродили более полутора лет. Теперь наш
"Фрам" гордо бороздит воды родины. Повсюду его приветствуют криками "ура"!
Садимся на наше дорогое судно и плывем дальше.
Все время на нашем пути народ толпится на набережных, будто сама
Норвегия гордится нами и, как мать, встречая нас с распростертыми объятиями,
благодарит за все понесенные труды. Хотя мы лишь выполнили наш долг, доведя
до конца взятую на себя задачу.
Вот мы и вернулись к жизни, и она открывается перед нами, полная света
и надежд. Вечереет. Солнце садится за синее море и над тихими просторами вод
разливается осенняя грусть. Какая красота!.. Уж не сон ли все это? Нет.
Закатный свет озаряет знакомые, милые силуэты, от них веет миром и верой в
жизнь.
Ледяные пустыни и призрачный лунный свет полярных ночей кажутся теперь
далеким видением иного мира, оставшимся позади сном. Но какова была бы жизнь
без мечты и таких видений?!
Петруш, курносый мальчик с огоньком в глазах, перевернул последнюю
страницу книги.
Закинув голову, он пристально глядит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана. Ему больше не хочется спать. Локти так онемели,
что он их не чувствует.
Как незаметно пролетело время!
Он возбужден, взволнован. Воображение умчало его в страну вечных льдов,
по следам героического корабля "Фрам" и его тезки, белого медведя.
Через далекие от его страны моря и горы таинственно протянулась
невидимая нить, связавшая людей, животных и события, которых, казалось бы,
ничто не могло собрать в одно место и в одно время.
И все же невидимая связь эта осуществилась, оставив глубокий след во
многих жизнях. Старый Ларс, бывший матрос на "Фраме" Нансена, когда-то
окрестил именем судна, на котором плавал в молодости, медвежонка, пойманного
охотниками в вечных льдах. Медвежонок этот стал Фрамом, знаменитым белым
медведем цирка Струцкого. И много лет спустя на прощальном представлении
цирка в городе, куда ему больше никогда не суждено было вернуться, этот
ученый медведь пробудил неутолимый интерес к полярным экспедициям в
мальчугане, который вместе со всеми кричал в тот вечер: "Фрама! Фрама!"
И вот теперь этот курносый мальчуган с неугасимым огоньком в глазах
всем своим существом заново переживает перипетии Нансена. Переживает их
страницу за страницей, как они были записаны в дневнике великого
исследователя много лет тому назад в далекой белой пустыне, среди дрейфующих
льдов.
Петруш страдает вместе с ним, дрожит вместе с ним от холода и томится
от голода; вместе с ним чуть было не утонул в разводье и спасся, чтобы
вместе порадоваться пришедшей в конце концов победе.
Книга закрыта. Петруш глядит на карту. Потом мысль его снова уносится к
Фраму, белому медведю.
-- Где-то он теперь, наш Фрам?.. -- спрашивает себя мальчик,
укладываясь спать. -- Интересно, что он теперь делает в своей ледяной
пустыне?
На следующее утро мысль его работает гораздо бодрее.
Окруженный сверстниками, размахивая руками, он воодушевленно, с важным
видом рассказывает о других белых медведях и о различных происшествиях в
полярных краях. О том, как однажды белый медведь тихонько залез на зажатый
льдами корабль Нансена и уволок трех собак; о том, как Нансен чуть было не
утонул в такой холодной воде, что у него захватывало дух, и как спасся, о
том, как он вернулся на родину и с каким ликованием его встречали.
Зимой вся ребячья орава шумно принялась лепить из снега Фрама, ученого
белого медведя.
-- Стойте! Давайте сделаем ему глаза из угольков! -- кричит один из
приятелей Петруша.
Он бежит, спотыкается, падает на четвереньки и опрокидывает снежного
медведя.
Все хохочут, валят виновника в сугроб, ставят его в наказание вверх
ногами, потом начинают лепить медведя.
Без Петруша, однако, дело не ладится. Медведь едва держится, а если
получше вглядеться, то он вовсе и не похож на медведя: ноги не в меру
длинные, голова слишком велика.
-- Петруш! Петруш! Иди, помоги нам! Ты у нас настоящий мастер!.. Петруш
тут как тут. Он округляет рукой голову и морду Фрама, знает, как надо
вставить глаза -- угольки, чтобы вышло похоже на настоящего белого медведя.
Отступит на шаг-другой, взглянет, покачает головой и что-то поправит
или прибавит.
-- Брр! Ну и морозище! Я совсем замерз... Даже пальцев не чувствую, --
хнычет кто-то из ребят, дуя в кулачки.
-- То же богатырь!.. Трясешься при двух градусах мороза! -- отчитывает
его Петруш. -- А что бы ты сказал на полюсе, при сорока или пятидесяти
градусах?
-- Ничего бы не сказал, потому что мне там нечего делать. Отправляйся
туда сам -- ты ж у нас специалист по полярным экспедициям!
-- А вот и отправлюсь!
-- И вытерпишь мороз в сорок градусов?!
-- Вытерплю! Нансен и другие как терпели? Не видишь, что я даже не
чувствую холода?
И действительно, готовясь к путешествию в полярные льды, Петруш уже
теперь начал себя закалять. По утрам он с ног до головы обтирается снегом.
Никогда больше не кашляет. Никогда не чихает. На знает, что такое простуда,
болезнь.
Это -- здоровый, жизнерадостный мальчик. За последнее время он
вытянулся, и с каждым днем его все больше любят товарищи по играм и
одноклассники. Вырос он и в глазах учительницы: книги о полярных экспедициях
научили его зрело мыслить, принимать быстрые решения, не увиливать от
ответственности и не полагаться на случай.
Когда затевались экскурсии в окрестности города, в лес или на озеро,
его выбирали вожаком и он всегда оказывался на высоте.
Да и дома, в их бедном хозяйстве, в семье, у которой так много
трудностей, старшие братья и сестры уже не считают его раззявой и путаником,
как прежде. Теперь они полагаются на него и даже нередко обращаются к нему
за советом и помощью:
-- А ты, Петруш, как думаешь? Попробуй, может, у тебя лучше получится,
не зря ж ты занимаешься всякой всячиной.
Петруш и в самом деле умеет вязать морские узлы, которых и зубами не
развяжешь. Когда на дворе бушует метель, он так затыкает щели в дверях и
окнах, что в доме совсем не дует; умеет починить и санки, и коньки, и самые
старые лыжи мальчишек со всей улицы. Кроме того, он изобрел "снегоходы",
сплетенные из лозы и веревок, на которых можно ходить, не проваливаясь, и по
мягкому снегу, и по насту.
Но областью, в которой Петруш действительно не знал себе равных, были
рассказы из полярной жизни.
Даже голос его менялся. Весь раскрасневшийся, с еще более блестящими,
чем обычно, глазами, он заставлял других переживать все, что перечувствовал
сам, когда читал о приключениях исследователей.
-- Петруш, ты, мне кажется, прибавил кое-что от себя, -- заметит иногда
недоверчивый слушатель. -- Слишком уж ты приукрасил своих героев.
-- Прибавил от себя? Приукрасил?! -- возмущается Петруш. -- Вот я тебе
книгу принесу! Прочтешь своими глазами!.. И я еще не все рассказал!..
Готовься!..
Случилось как-то, что и сам он, читая, сначала не поверил своим глазам.
Все объяснилось только тогда, когда он прочел книгу от корки до корки.
Однажды учитель-пенсионер встретил его на улице. Петруш поздоровался и
хотел уже пройти дальше, но тот остановил его:
-- Погоди, Петруш, -- сказал дедушка белокурой Лилики. -- Почему ты
больше к нам не заходишь?
-- Боялся вас беспокоить. Я же перечитал все книги о белых медведях и
полярных экспедициях в вашей библиотеке...
Учитель улыбнулся и шутливо погрозил ему пальцем:
-- Очень мило! Значит, ты только из-за книг и приходил? А когда книги
кончились, нас забыл!
Петруш замялся.
-- Боялся вам надоесть... -- смущенно пробормотал он.
-- Час от часу не легче! -- все с той же доброй улыбкой продолжал
журить его старик. -- Разве я когда-нибудь давал тебе понять, что ты надоел?
Наоборот, мне всегда было приятно обсуждать с тобой прочитанные книги.
Не найдя ответа, мальчик опустил глаза. Отвечать ему было нечего.
Петруш чувствовал себя виноватым и действительно не знал, как это
получилось, что он вот уже целый месяц не заходил к старому учителю и его
светлокудрой внучке.
-- Не расстраивайся, Петруш, я на тебя не сержусь. А вот Лилика
действительно обижена. Но мы это уладим. Жаль только, что ты упустил случай
прочесть новую книжку.
-- Новую книжку? -- воодушевился Петруш.
-- Да! Новую книжку...
-- О белых медведях и полярных экспедициях?
-- Да, о белых медведях и полярных экспедициях. Только на этот раз
книжка гораздо более интересная, чем те, которые ты прочел до сих пор. Речь
в ней идет о знаменитых русских исследователях, которые первыми изучили
бескрайние просторы далекого Севера.
-- И эта книга еще у вас? -- взволнованно спросил Петруш, сгорая от
нетерпения. -- Вы ее еще никому не одолжили?
-- Любителей нашлось немало. Но я ее не отдал...
-- А мне дадите?
-- По справедливости, я должен был бы сначала дать ее тем, кто просил
до тебя, Петруш! -- ответил старый учитель. -- Но ты уже сам себя наказал:
вместо того чтобы прочесть ее на две недели раньше, ты начнешь ее только
завтра!
-- Сегодня! Я прочту ее сегодня! -- выпалил нетерпеливый Петруш.
-- Хорошо, Петруш. Если так, проводи меня домой и получай книгу.
-- Я прочту ее сегодня же вечером, а завтра верну,-- пообещал Петруш.
-- Не торопись с обещаниями! -- наставительно сказал бывший учитель. --
Я вовсе не требую от тебя такой спешки. Эту книгу нужно читать обстоятельно.
В самом деле, книга, которую получил на этот раз Петруш, была непохожа
на прежние. И, конечно, за один вечер он ее не одолел.
Сперва он читал ее без передышки три дня кряду после обеда.
Потом перечитывал ее, уже не торопясь, целую неделю.
Книга была толстая, напечатанная мелким шрифтом, с картинками, картами,
полная приключений, пережитых исследователями, и подробным описанием всех
происшествий. Каждая страница, каждая фотография рассказывала о неслыханных
подвигах отважных русских исследователей и первооткрывателей.
Одни разведывали на неисследованных островах месторождения нефти, угля
и металлов. Другие изучали животный и растительный мир северных морских
глубин. Были и такие, которые искали сохранившихся во льду гигантских
зверей, давно вымерших. Так были найдены в природных "холодильниках"
мамонты, жившие много десятков тысяч лет назад. Эти чудовища были гораздо
больше и тяжелее слонов "Ноева ковчега" цирка Струцкого. Они так хорошо
сохранились -- такими же, какими были в тот день, когда их засосал и покрыл
ледник, -- что охотничьи и ездовые собаки тамошних жителей кидались на них,
как на живых.
Петруш смотрит прибитую над столом карту, прослеживает глазами и
мысленно восстанавливает путь, проделанный русскими исследователями.
Потом, перед тем как лечь спать, опять спрашивает себя: "Где в этой
ледяной пустыне Фрам? И что-то он теперь делает?"
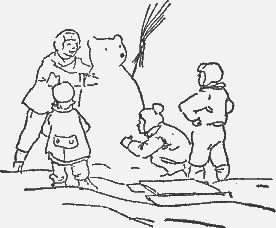 * * *
* * *
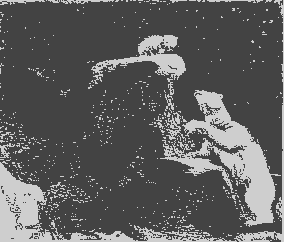 XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
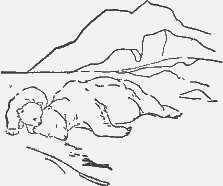 * * *
* * *
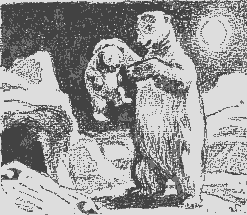 XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
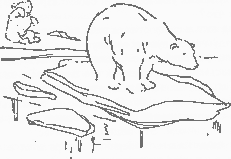 * * *
* * *
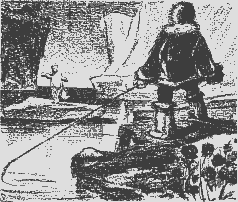 XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
 * * *
* * *
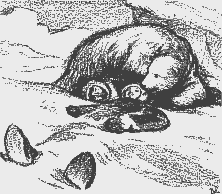 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ре
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ре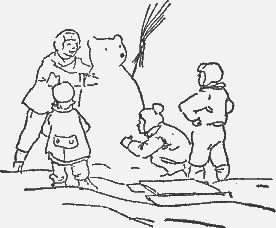 * * *
* * *
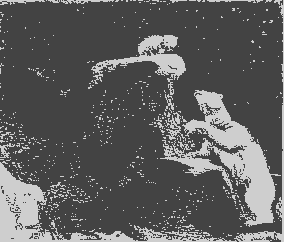 XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
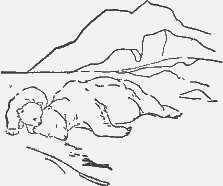 * * *
* * *
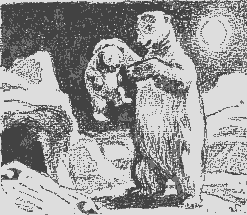 XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
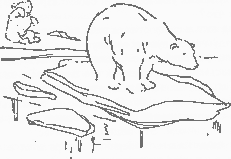 * * *
* * *
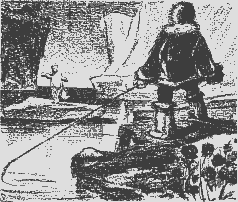 XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
 * * *
* * *
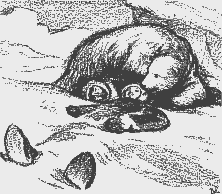 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ре
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ре